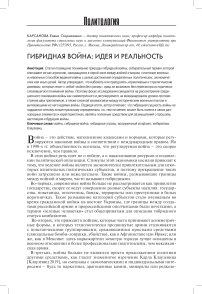Гибридная война: идея и реальность
Автор: Карсанова Е.С.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена пониманию природы гибридной войны, собирательный термин которой описывает ее как агрессию, находящуюся в серой зоне между войной и миром, сочетание военных и невоенных способов ведения войны с целью достижения определенных политических, экономических или иных целей. Автор утверждает, что избежать или преодолеть нормативные и стратегические дилеммы, которые несет с собой «война без границ», вряд ли возможно без пересмотра исторически сложившегося понимания войны. Поэтому фокус исследования смещается на рассмотрение традиционного понимания войны как симметричного и регулируемого на международном уровне противостояния двух противников, а также сложной взаимосвязи между историческим военным опытом и вытекающими из него идеями войны. Подводя итоги, автор отмечает, что гибридная сущность войны не поддается четкому концептуальному определению, но, тем не менее, может быть понята в своих разнородных элементах и характеристиках, являясь полезным средством для размышлений о прошлом, настоящем и будущем войны.
Война, гибридная война, гибридные угрозы, вооруженный конфликт, кибератаки, Клаузевиц
Короткий адрес: https://sciup.org/170211064
IDR: 170211064
Текст научной статьи Гибридная война: идея и реальность
В ойна – это действие, наполненное кодексами и нормами, которые регулируются законами войны в соответствии с международным правом. Но в 1990-х гг. общественность осознала, что регулируемая война – это скорее исключение, чем правило.
В этих войнах речь идет не о победе, а о накапливании ресурсов и подавлении политической оппозиции. Стимулы этой экономики насилия приводят к тому, что ведение войны является экономически привлекательным для некоторых влиятельных политических субъектов, и поэтому прекращение таких войн затруднено или нежелательно. Такие войны, размывающие границы между войной и миром, часто называют гибридными.
Во-первых, современная война больше не рассматривается как привилегия государства, скорее ее ведут совершенно разные субъекты насилия: государства, повстанцы, ополченцы, банды, террористы или преступники в белых воротничках. Такое размывание категорий субъектов стало очевидным во время гражданской войны на востоке Украины, где границы между солдатами российской армии и пророссийскими ополченцами были нечеткими, а термин «зеленые человечки» стал общепринятым для описания гибридного статуса комбатантов.
Во-вторых, это приводит к войнам, которые часто принимают асимметричные формы, в которых технологически продвинутые армии сталкиваются с повстанческими группировками, сражающимися простыми средствами (самодельные бомбы-ловушки, убийства), как в Афганистане или Ираке; или же, как в Мексике: здесь наркокартели зачастую гораздо лучше оснащены в военном отношении и более профессионально подготовлены, чем мексиканская армия.
В-третьих, войны больше не являются просто продолжением политики другими средствами, как гласит знаменитое изречение Карла Клаузевица [Клаузевиц 2019], но смешаны с экономическими и индивидуальными интересами – будь то наркотики, драгоценные камни, минералы или редкозе- мельные металлы. Так, в Демократической Республике Конго, Афганистане или Южном Судане экономика насилия, движимая эксплуатацией ресурсов, представляет собой важный аспект войны. Внутренняя логика этой экономики насилия может привести и приводит к временнóму и пространственному расширению насилия.
В-четвертых, войны больше не ограничены во времени; они больше не объявляются и официально не прекращаются. Войны начинаются незаметно в какой-то момент, продолжаются и снова незаметно заканчиваются. Фазы роста и спада насилия часто происходят циклично и различаются на мест-ном/региональном уровне внутри самой страны. Военные времена трудно отличить от мирных.
В-пятых, больше нет полей сражений. Четкое пространственное ограничение снимается. Война не только разгорается и затихает по всей стране – иногда несинхронно, – но и соседние страны все чаще вовлекаются в нее – либо как места отступления, либо как районы развертывания. Гражданские войны редко останавливаются на национальных границах и приводят к трансграничной дестабилизации или даже к зонам трансграничных конфликтов. Наконец, как показывают теракты в Мадриде, Брюсселе, Париже или Берлине, войны происходят в результате террористических атак вдали от источника конфликта, в обществах, для которых война на самом деле кажется далекой.
В-шестых, размывание границ во время войны приводит к исчезновению различия между гражданскими лицами и комбатантами: акты насилия направлены непосредственно против гражданского населения, часто с целью полного уничтожения людей с иной культурой, таких как езиды в горах Синджар на севере Ирака или нуэры и динка в Южном Судане [Gregory 2010]. В других местах агрессивные субъекты используют мирных жителей в качестве живого щита. Статус бойца, который не носит форму и не может быть отнесен ни к одному признанному воинскому подразделению, стирает грань между гражданским лицом, солдатом и террористом.
В-седьмых, война частично вышла за рамки пространства или ускорилась благодаря новым технологиям: война, ведущаяся с использованием сверхсовременных беспилотников и беспилотных летательных аппаратов, теперь ведется на пространственном расстоянии. Поле боя отображается на экране, а управление оружием осуществляется на расстоянии. Военные вмешательства могут быть осуществлены точно и в очень короткие сроки, что не делает их менее жестокими. Подобные технологии также ведут к милитаризации пограничных режимов Европы и США. В то же время война переместилась в киберпространство, например посредством атак на ИТ-системы критически важных инфраструктур [Gregory 2011].
Поскольку война в XXI в. трансформируется в, казалось бы, незнакомые формы, объединяющие регулярные и нерегулярные силы на одних и тех же полях сражений, некоторые военные аналитики предположили возникновение нового типа войны – гибридной войны. Это слово стало модным как среди гражданских, так и военных лидеров в Пентагоне и других местах. Однако, как утверждал Клаузевиц почти два столетия назад, хотя война и меняет свои характеристики в зависимости от обстоятельств, в какой бы форме она ни проявлялась, война все равно остается войной [Клаузевиц 2019].
Уже почти десять лет аналитики и политики в области обороны предупреждают об угрозе, которую представляет собой гибридная война. Однако остается на удивление неясным, какие именно инструменты политической власти лежат в основе этих предупреждений и в какой степени гибридная война на самом деле представляет угрозу. Тем не менее западные государства вложили значительные ресурсы, чтобы минимизировать эту угрозу. Например, в этом году ЕС объявил о проведении в Молдове комплексной миссии по борьбе с «гибридными угрозами» – первой миссии такого рода.
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2015 г. министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен назвала гибридную войну «одним из важнейших будущих вопросов политики безопасности». По словам фон дер Ляйен, принципиально новым является «комбинация и организация этой необъявленной войны, в которой только общее рассмотрение отдельных фрагментов мозаики раскрывает агрессивную природу плана». Новый тип войны требует новых контрмер: «это нетрадиционные и разнообразные средства гибридной войны, которые должны вестись нетрадиционно и разными способами»1. С этим диагнозом министр обороны приняла семантику стратегической теории, которая изначально была американской и восходит к 1998 г. Но наиболее весомый вклад в раннюю дискуссию о гибридной войне внес американский стратегический теоретик Фрэнк Хоффман, который с 2005 г. представил несколько исследований по этой теме [Hoffman 2007]. Еще большее политическое внимание этот термин привлек в 2014 г. в результате одновременного продвижения России на восток Украины и в Крым, а также действий так называемого Исламского государства в Сирии и Ираке.
Преобладающее понимание гибридной войны предполагает, что использование современных информационных технологий повышает эффективность этих инструментов. В частности, ожидается, что скорость, масштабы и интенсивность конфликтов в серой зоне возрастут из-за влияния, оказываемого посредством киберопераций и операций в социальных сетях. Кибероперации позволяют в кратчайшие сроки выводить из строя инфраструктуру, наносить экономический ущерб и нарушать каналы связи, преодолевая национальные границы. Кампании влияния в социальных сетях, в свою очередь, могут сеять панику, вызывать замешательство и влиять на общественное мнение таким образом, что это может изменить результаты выборов. Современное цифровое пространство позволяет не только манипулировать, «но и удаленно управлять действиями и влиять на принятие решений пользователями» [Парма, Кравчук 2024]. Таким образом, восприятие гибридной войны как высокой угрозы проистекает из предположения, что государства теперь могут добиться результатов, которые раньше были бы невозможными, не прибегая к военным средствам. Учитывая преобладающее восприятие угрозы, многие государства все больше сосредоточивают свои оборонные стратегии на борьбе с гибридной войной. Например, в 2015 г. НАТО сделало борьбу с гибридными угрозами одним из своих приоритетов.
Все это поднимает целый блок вопросов: как общество и государство может отреагировать на гибридную войну? Должны ли политии прибегать к «нетрадиционным» средствам и действовать «гибридно», чтобы защитить себя? Следует ли перенести свою оборонительную борьбу в сферы СМИ, социальных сетей, гражданской, религиозной и культурной жизни? Поиск ответов на эти политико-стратегические и другие вопросы требует прежде всего четкого понимания феномена гибридной войны, а именно, что имеется в виду, когда мы говори м о гибридных войнах?
Пока нет ответов на этот вопрос, термин «гибридная война» рискует превратиться не более чем в модный ярлык – ярлык, который можно прикрепить к явлениям, которые еще не поняты, т.е. в не-концепцию, или псевдоконцепцию. Это является своего рода заместителем чего-то непостижимого, а именно сложности ситуации в сфере безопасности, которая в настоящее время сложилась в Сирии и Ираке и в которой, как мы считаем, мы больше не можем доверять нашим традиционным концепциям и нашему проверенному репертуару действий, поскольку здесь война и мир, война между государствами и гражданская война сливаются воедино. Похоже, что именно в этом и заключается основная проблема термина «гибридная война»: мы больше не доверяем нашим старым концепциям и стратегиям перед лицом необъявленных войн. Учитывая провал традиционных концепций и стратегий в борьбе с гибридной войной, следует ли нам все переосмыслить и делать все совершенно иначе, чем раньше? Или можно извлечь уроки из прошлого для концептуального и политического управления гибридной проблемой? Ответ на эти вопросы представляется сложным, поскольку не позволяет извлечь какие-либо уроки, которые можно было бы немедленно применить.
«Исламское государство» в Сирии и Ираке перешло от асимметричной, нерегулярной, сетевой и нетрадиционной негосударственной войны, которую оно изначально практиковало как ответвление «Аль-Каиды», к более симметричной, регулярной, иерархической и традиционной квази- или про-тогосударственной войне [Wassermann 2015]. Это достижение сочетает в себе «нетрадиционные и разнообразные средства» и, следовательно, представляет собой гибридный вызов, который оказывает давление прежде всего на западную политику безопасности и мира и ее традиционное понимание войны, заставляя их адаптироваться.
Чтобы понять эту проблему, недостаточно задаться вопросом, представляют ли гибридные войны что-то действительно новое или что-то очень старое с исторической и интеллектуальной точек зрения.
Проблема гибридной войны, по-видимому, возникает именно из-за того, что эта война смешивает очень старые элементы с очень новыми таким образом, что это оказывается неожиданным для конкретного субъекта и в конкретном контексте. Понимание причин неожиданности гибридной войны, таким образом, также означает выход за рамки предположительно бинарного вопроса исторической преемственности или прерывности гибридной войны, гибридного военного мышления и рассмотрение сложной взаимосвязи между историческим военным опытом и вытекающими из него идеями войны. Какой прошлый опыт и идеи сформировали современное (преимущественно европейское) понимание войны и мира таким образом, что гибридная война в последнее время смогла достичь столь большого эффекта?
Традиционное понимание войны сложилось в Европе после Вестфальского мира. В течение определенного периода времени и в определенной географической области, которая постоянно расширялась за пределы Европы, это толкование войны смогло развить обязательную силу, несмотря на все исторические исключения и отклонения в истории идей, которые всегда ставили это понимание под сомнение. Только на фоне более или менее выраженной обязательности такого традиционного понимания войны становится понятным, почему гибридная война воспринимается как нечто новое и удивительное в начале XXI в. В гибридной войне границы, которые в идеале характеризовали обычную европейскую войну между государствами, размываются – границы между солдатами и гражданскими лицами, комбатантами и неком- батантами, фронтом и тылом, армией и полицией, внешней и внутренней политикой. Это в итоге размывает границы самой войны в общепринятом смысле, которые отделяли ее как войну между государствами от гражданской войны, с одной стороны, а с другой – от мира. Гибридная война раскрывает свой потенциал внезапности, намеренно подрывая вышеупомянутые ограничения обычных методов ведения войны, которые она может считать обязательными для своих противников.
Примером такого преднамеренного разграничения войны являются террористические атаки «Исламского государства», которые способствуют дели-митационному характеру войны. Этот гибридный субъект, действующий со своей квазигосударственной логистической, военно-идеологической базы в Сирии и Ираке, атакует гражданские, «мягкие», символические цели в западных городах. К ним относятся: редакция сатирического журнала Charlie Hebdo и супермаркет кошерных товаров в Париже 7 января 2015 г., концертный зал «Батаклан», несколько ресторанов и футбольный матч между сборными Франции и Германии в том же месте 13 ноября 2015 г. и, наконец, станция метро Maelbeek и аэропорт Zaventem в Брюсселе 22 марта 2016 г. Вместо солдат на невидимом фронте внезапно оказываются мирные жители, среди которых карикатуристы, потребители, посетители концертов, ресторанов и стадионов, пассажиры метро и авиапассажиры. Они внезапно оказываются на безграничной территории гибридной войны.
Эта война является гибридной, поскольку в ней стираются границы, которые определяли и продолжают определять традиционное понимание войны. В гибридной войне не существует официальных объявлений войны и официальных мирных соглашений. Аналогичным образом теряют значение четкие линии фронта, фиксированные территориальные границы, узнаваемая униформа с четкими знаками различия и обязательные правила ведения войны. Именно это приводит к дезориентации при столкновении с гибридной проблемой: где находится поле боя в гибридной войне, где находится фронт? Какие виды оружия и стратегии используются или могут быть использованы? Кто такой солдат или боец, а кто такой гражданский? Когда на самом деле начинается война, и как это можно однозначно оценить? Что такое победа или успех в этой войне? Как достичь мирного соглашения и когда заканчивается война? Каким законам и правилам ведения войны следуют противники? Кого можно считать нейтральным, и кто контролирует средства массовой информации, освещающие события, а значит и «факты», и «правду» войны? В эпоху обычных войн между государствами можно было считать, что на эти вопросы имеются относительно четкие и обязательные ответы.
В первые десятилетия XXI в. эти вопросы вновь становятся актуальными в условиях гибридной войны, не имеющей границ, и поиск ответов на них сопряжен со значительными концептуальными и политическими проблемами. Именно это и выражает термин «гибридная война». Это относится к вопросам, на которые больше нельзя дать однозначный ответ и на которые, возможно, даже невозможно дать четкий ответ. Вместо этого гибрид-ность означает, что вместе с ограничениями обычной войны растворяются и предыдущие ответы, поскольку в войне элементы и идеи государственной войны, гражданской войны и мира объединяются, образуя смесь, которую следует всеми средствами предотвращать в рамках Вестфальского государственного порядка: с помощью концептуальных и теоретических дифференциаций, с помощью различий в военном и международном праве и с помощью политических практических разграничений различного рода. По крайней мере, этот урок можно извлечь из прошлого для современных гибридных войн.
К. Клаузевиц всегда подчеркивал ее трансцендентную природу во времени и контексте, которую он описывал как «странную троицу» [Клаузевиц 2019]. Поэтому первым элементом этой «странной троицы» войны является «слепой природный инстинкт», который конкретизируется в насилии, ненависти и враждебности людей как средствах ведения войны. Вторым элементом является «свободная деятельность души», охватывающая игру с вероятностями и случайностями, которыми должен овладеть полководец для достижения стратегических целей войны. Третий элемент – «простой разум», который высшая политика приводит в действие, определяя цели войны и используя войну как инструмент для достижения этих целей.
К. Клаузевиц считал, что историческое разнообразие войн можно понять через различные комбинации этих трех элементов – инструментальной жестокости, стратегической креативности и политической рациональности. Может ли этот аналитический инструментарий помочь нам лучше понять гибридную войну? Те, кто спрашивает о специфически гибридной смеси, которую «чудесная троица» жестокости, креативности и рациональности предполагает в гибридной войне, вероятно, будут меньше искать ее в политических целях и стратегических задачах, поскольку гибридная война часто, по-видимому, ведется для достижения обычных целей и задач, таких как расширение территориального господства или, наоборот, его дестабилизация. Вместо этого специфика гибридной войны, по-видимому, возникает в первую очередь из используемых средств насилия и их творческого сочетания или, как сказала Урсула фон дер Ляйен, из «оркестровки» «нетрадиционных и разнообразных» средств гибридной войны. «Нетрадиционные средства» означают, что используются иные средства, чем в обычной войне между государствами, т.е. средства, которые не рассматриваются как средства ведения войны в чисто военном испытании сил.
Именно эта одновременность и сочетание различных средств делают гибридную войну гибридом, отходящим от традиционного понимания войны, но при этом не выходящим полностью за рамки аналитической структуры Клаузевица. Как можно теоретически описать такое гибридное существо, которое частично, но не полностью ускользает от классических концепций? С этой целью целесообразно «думать вместе с Клаузевицем и в то же время за пределами Клаузевица». Это означает прежде всего серьезное и «разумное» понимание концептуальных, политических и социальных проблем, которые представляет собой термин «гибридная война». Невыполнение этого требования было бы равносильно отказу извлекать уроки из прошлых сюрпризов на случай будущих.