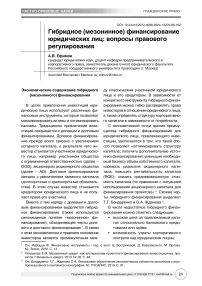Гибридное (мезонинное) финансирование юридических лиц: вопросы правового регулирования
Автор: Ефимов А.В.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Частно-правовые (цивилистические) науки - гражданское право
Статья в выпуске: 12 (279), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются инструменты гибридного финансирования как альтернативы долевому и долговому финансированию. Анализируются правовое положение инвесторов (юридических лиц), привлекающих инвестиции с использованием гибридных инструментов, соотношение гибридных инвесторов и традиционных кредиторов. Автор делает вывод о том, что развитие правового регулирования гибридного финансирования предполагает более тщательную балансировку прав и интересов гибридных кредиторов, участников и кредиторов по долговым обязательствам.
Долевое и долговое финансирование, инструменты гибридного финансирования, мезонинное финансирование, преимущества и недостатки гибридного финансирования, квазикорпоративный договор, конвертируемые облигации, конвертируемый заем, трансформация долга в капитал
Короткий адрес: https://sciup.org/170207820
IDR: 170207820 | DOI: 10.24412/2072-4098-2024-12279-89-102
Текст научной статьи Гибридное (мезонинное) финансирование юридических лиц: вопросы правового регулирования
Экономическое содержание гибридного (мезонинного) финансирования
В целях привлечения инвестиций юридические лица используют различные финансовые инструменты, которые позволяют максимизировать активы и оптимизировать пассивы. Традиционно привлечение инвестиций связывается с долевым и долговым финансированием. Долевое финансирование прежде всего связано с увеличением уставного капитала, в результате чего инвестор становится участником юридического лица, например участником общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО), акционером акционерного общества (далее – АО). Долговое финансирование связано с увеличением заемного капитала (долгосрочные и краткосрочные обязательства). В этом случае инвестор становится кредитором юридического лица и не получает права его участника.
Вместе с тем наряду с долевым и долговым финансированием выделяется гибридное финансирование (также используется синонимичное понятие «мезонинное» финансирование), объединяющее черты долевого и долгового финансирования 1. В связи с этим экономическое и правовое положение инвесторов является промежуточным меж- ду классическим участником юридического лица и его кредитором. В зависимости от конкретного инструмента гибридного финансирования можно гибко распределять права инвесторов в отношении юридического лица, а также определять структуру корпоративного капитала в зависимости от потребности.
С экономической точки зрения преимущества гибридного финансирования для юридического лица, привлекающего инвестиции, заключаются в том, что такой способ позволяет «оптимизировать структуру капитала; получить дополнительные источники финансирования; уменьшив необходимый бизнесу объем собственного капитала, избежать размытия акционерного капитала; повысить рентабельность капитала (ROE); снизить средневзвешенную стоимость капитала (по сравнению с ситуацией использования акционерного капитала для финансирования проектов)» 2. Схожие черты гибридного финансирования выделяют Т.Г. Бондаренко и О.А. Жданова 3.
В числе недостатков гибридного финансирования можно отметить следующие:
-
• высокая цена за привлекаемый капитал относительно банковского кредитования или займа;
-
• возможность утраты корпоративного контроля над юридическим лицом;
-
• недоступность инструментов гибридного финансирования для различных организационно-правовых форм юридических лиц 4.
Однако в целях решения конкретных экономических задач недостатки гибридного финансирования компенсируются его преимуществами.
С учетом обозначенных преимуществ и недостатков гибридное финансирование может быть интересно инвесторам, которые не хотят брать на себя риски, в полной мере свойственные участникам юридического лица, но в то же время стремятся в полной мере влиять или даже контролировать своего контрагента по сравнению с типичным кредитором по договорному обязательству. В этом смысле гибридное финансирование может быть альтернативой корпоративному и квазикорпоративному договору (статья 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее – ГК РФ). Однако для заключения корпоративного договора и перераспределения управленческих прав инвестору все же необходимо стать участником этой корпорации, а при заключении квазикорпоративного договора влияние кредитора не распространяется на саму корпорацию, оно ограничивается влиянием на конкретного участника.
Инструменты гибридного финансирования и правовое положение инвесторов
С точки зрения структуры пассивов юридического лица, привлекающего инвестиции, любое увеличение актива будет рассматриваться через призму динамики собственного и заемного капиталов, поэто- му любой инструмент гибридного финансирования также будет квалифицироваться либо как долевое, либо как долговое финансирование. Вместе с тем, учитывая наличие у определенного инструмента гибридного финансирования признаков как долевого, так и долгового финансирования, ориентация на жесткое бухгалтерское деление пассивов не позволит рассмотреть правовые последствия, обусловленные конкретной совокупностью признаков такого инструмента. В связи с этим выделение инструментов гибридного финансирования актуально не столько в целях бухгалтерского учета, сколько в целях определения их влияния на распределение прав и обязанностей, связанных с управлением юридическим лицом.
Ж. Тироль называет такие примеры гибридного финансирования, как субординированный долг, привилегированные акции и конвертируемый долг 5. Лоренцо Сассо (Lorenzo Sasso) акцентирует внимание на привилегированных акциях и конвертируемых облигациях 6. Л.А. Виницкая пишет, что «опосредованные нормами права отношения мезонинного финансирования структурируются либо посредством субординации долговых обязательств (например путем заключения межкредиторского соглашения), либо посредством конвертируемого займа» 7. Е.М. Петрикова отмечает, что «понятие «мезонинное финансирование» более широкое, чем понятие «мезонинный кредит». Оно включает в себя также финансовые инструменты (акции, облигации, опционы и пр.), работающие на рынке ценных бумаг» 8. Г.Х. Пыркова указывает, что гибридное финансирование имеет место, когда «инвестор предоставляет заемщику средства в виде долгового финансирования с одновременным приобретением опциона на приобретение акций заемщика или специального проектного предприятия (SPV) в будущем по определенной цене и при наступлении определенных условий» 9. Выделяя долговую (например кредиты, займы и т. д.) и долевую (право на приобретение акций) части гибридных инструментов финансирования, Т.Г. Бондаренко и О.А. Жданова отмечают, что к гибридным инструментам относятся опцион или опцион эмитента 10.
Несмотря на отсутствие определенного единого перечня таких инструментов или их системы, гибридное финансирование охватывает различные инструменты, которые в большей степени тяготеют либо к долевому финансированию (например привилегированные акции), либо к долговому финансированию (например конвертируемые облигации). Понятие гибридного финансирования охватывает инструменты от классических (обыкновенных) акций до обычного права требования из долгового обязательства.
Впрочем, несмотря на то что гибридное финансирование охватывает черты долевого и долгового финансирования, правовое регулирование весьма четко ориентируется на разграничение ценных бумаг и долговых обязательств. Исходя из этого происходит жесткое разграничение и даже противопоставление участников юридического лица и его кредиторов.
Лоренцо Сассо отмечает, что корпоративное законодательство использует очень формалистический подход к определению того, что права контроля в отношении юридического лица будут у его акционеров, хотя фактически инструменты гибридного финансирования часто могут очень сильно напоминать или даже идеально копировать положение акционеров без использования традиционных, заранее подготовленных пакетов прав (то есть обыкновенных или привилегированных акций) 11. Представляется, что правовые последствия должны быть обусловлены не ярлыками, а именно экономическими признаками, которые определяют фактическую картину мира и, в частности, влияют на фактическое управление юридическими лицами, то есть на то, как распределяются права в отношении юридического лица между участниками и кредиторами.
Учитывая известный диалектический закон перехода количества в качество, можно отметить, что кредиторы по мере наращивания их прав в отношении юридического лица сближаются с участниками. В то же время и участники при ослаблении их прав сближаются с кредиторами. Однако право не всегда удачно воспринимает подобные переходные состояния, которые могут быть свойственны инвесторам. Привязываясь к конкретным ценным бумагам или долгу, право фрагментарно регулирует соответствующие способы финансирования и связанные с ними процессы управления юридическими лицами. При этом важно не столько вычленять каждую разновидность инструмента финансирования, сколько обусловливать правовые последствия элементами (и их комбинациями), определяющими тот или иной инструмент финансирования.
Сравнивая положение участников и кредиторов юридических лиц, стоит обратить внимание, в связи с какими характеристиками инструментов финансирования проводится их различие. В юридической литературе отмечается, что акции (доли) представляют собой определенную совокупность (систему, комплекс, форму фиксации) корпоративных прав и обязанностей 12.
Другими словами, акция (доля) является неким ярлыком, под которым подразумевается определенный пучок прав и обязанностей инвестора. Именно благодаря этим ярлыкам инвесторы воспринимаются в качестве участников, реализующих права, связанные с управлением (или даже контролем) юридическим лицом по разным вопросам его деятельности.
В то же время участникам противопоставляются кредиторы. В этом контексте Д.И. Степанов пишет, что если у кредитора и есть какая-то экономическая власть над юридическим лицом как над его должником, то она ограничивается исполнением конкретного обязательства и не позволяет оказывать влияние на корпоративное образование и принимаемые его органами решения как в корпоративно-правовых отношениях 13. Такой подход позволяет объяснить четкое деление долевого и долгового финансирования в условиях применения примитивных схем финансирования, в которых можно провести фактически дихотомическое деление на участников и кредиторов. Однако у кредиторов тоже могут быть наборы прав и обязанностей, похожие на права и обязанности участников. Можно представить, что вместе с правом требования по долговому обязательству кредитор также будет иметь право на «корпоративную» информацию о должнике, получение определенного процента при распределении прибыли, опцион на конвертацию права требования в акции и т. д. По мере того как долговое финансирование начинается ос- ложняться дополнительными правами кредитора, кредиторы все больше начинают становиться похожими на акционеров, в результате чего между ними будет стираться четкая грань.
Таким образом, действительное различие участников и кредиторов следует проводить не по их формальному титулу, а по тем правам и обязанностям, которые объединены («упакованы») в определенный инструмент финансирования. В юридической литературе отмечается следующее: несмотря на то, что акционер и кредитор являются «поставщиками» финансовых услуг с разными условиями, оба отношения, по сути, являются договорными 14. Представленный подход идеально укладывается в известную теорию, описывающую юридическое лицо как пучок договоров (nexus of contracts) 15. Комбинируя права и обязанности, можно создавать различные инструменты финансирования, которые необязательно будут соответствовать четкому делению на акции и права требования, а их держатели, соответственно, не будут четко вписываться в классическое понимание участников и кредиторов. В связи с этим правовое положение инвесторов стоит привязывать не к формальному титулу, а к тем фактическим правам и обязанностям, которые «упакованы» в тот или иной инструмент финансирования.
Процесс цифровизации значительно облегчает и делает прозрачным содержание инструментов финансирования. Так, различные наборы прав и обязанностей инвесторов по отношению к лицу, которое привлекает инвестиции, обозначаются определенными токенами (цифровыми правами). В статье 8 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ…» закреплено, что в инвестиционной платформе могут приобретаться, отчуждаться и осуществляться следующие цифровые права (утилитарные цифровые права):
-
1) право требовать передачи вещи (вещей);
-
2) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;
-
3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.
В пункте 2 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте…» отмечается, что цифровые финансовые активы включают денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов.
Несмотря на разное содержание утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов, их объединяет то, что они могут включать определенное имущественное право (или совокупность прав). При этом для существования и оборота таких токенов само по себе содержание не имеет принципиального значения, что указывает на возможность «упаковать» в них как права, свойственные акциям, так и права требования, свойственные долговому финансированию. По этой причине, например, кроме права требования на возврат долга и процентов, теоретически в токен можно «упаковать» и иные права, связанные с корпоративным управлением, в том числе право на информацию, право на участие в общем собрании участников юридического лица и т. д.
Виды инструментов гибридного финансирования
Обобщая основные инструменты гибридного финансирования, можно сказать, что с точки зрения современной бухгалтерии они будут учитываться либо в разделе собственного капитала (долевое финансирование), либо в разделе заемного капитала (долговое финансирование). В целях упрощения описания текущего правового режима инструментов гибридного финансирования можно ориентироваться именно на такое разделение.
Долевые инструменты, которые не обеспечивают полноценное правовое положение участника юридического лица, можно рассмотреть на примере привилегированных акций. Согласно пункту 1 статьи 25 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. В пункте 1 статьи 32 Закона об АО закреплено, что по общему правилу «акционеры – владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров». В уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа (п. 2 ст. 32 Закона об АО). Приведенные положения указывают на то, что привилегированные акции не дают их владельцам такие права, которые дают обыкновенные акции. Фактически отстранение от корпоративного управления превращает акционера – владельца привилегированных акций во вкладчика, предоставившего долговое финансирование. Однако полностью отождествить такого акционера с кредитором по долговому обя- зательству нельзя, поскольку в ряде случаев они приобретают право голоса (пп. 4 и 5 статьи 32 Закона об АО), а также право конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции (п. 3 ст. 32 Закона об АО).
В пункте 6 статьи 32 Закона об АО допускается возможность для непубличных акционерных обществ предусмотреть один или несколько типов привилегированных акций, предоставляющих помимо (или вместо) прав, предусмотренных статьей 32 Закона об АО, право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств (совершение либо несовершение обществом или его акционерами определенных действий, наступление определенного срока и т. д.), преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права. Эта норма усиливает «акционерный эффект» такого инструмента, как привилегированные акции, приближая правовое положение их владельцев к правовому положению акционеров – владельцев обыкновенных акций.
Представляется, что идея конструкции привилегированных акций может быть распространена и на иные организационноправовые формы юридических лиц. Схожая конструкция обнаруживается, например, при исследовании вкладов коммандитистов в хозяйственных товариществах на вере (ст. 85 ГК РФ). С учетом цифровизации инструменты гибридного финансирования могут выпускаться в виде определенных токенов, которые позволят вне зависимости от организационно-правовой формы осуществлять фактически долевое финансирование (увеличение собственного капи- тала), но не наделять их держателей всеми правами и обязанностями участников.
Гибридное финансирование охватывает и долговое финансирование с предоставлением кредиторам прав и обязанностей, схожих с правами и обязанностями участников юридических лиц.
Для начала стоит рассмотреть долговые инструменты, которые можно конвертировать в долевые инструменты, то есть в результате чего происходит трансформация долга в капитал (Debt-to-Equity Swap). В этом контексте А.А. Глушецкий выделяет четыре способа квазиинвестиционного увеличения уставного капитала: «1. Зачет денежных требований к акционерному обществу в счет увеличения его уставного капитала по закрытой подписке, в том числе выплата дивидендов дополнительными акциями эмитента. 2. Зачет денежных требований к ООО в счет увеличения его уставного капитала за счет вклада кредитора общества. 3. Заключение договора конвертируемого займа (ст. 32.3 ФЗ «Об АО», ст. 19.1 ФЗ «Об ООО»). 4. Конвертация конвертируемых облигаций в дополнительные акции или в доли в уставном капитале ООО» 16 .
Конвертируемые облигации представляют собой долговые ценные бумаги. Как отмечает И.А. Балюк, конвертируемые облигации «обладают всеми признаками, свойственными обычным облигациям: номинальная стоимость, дата выпуска, срок погашения, стоимость при погашении, купонная ставка и др. Вместе с тем в момент обмена на акции они перестают быть долговым инструментом, поэтому их принято считать «гибридными» ценными бумагами, которые обладают свойствами как облигаций, так и акций» 17.
Учитывая, что конвертация облигаций может затронуть права и интересы участни- ков, решение об их размещении не может быть произвольно принято менеджментом. В связи с этим, например, в пункте 2 статьи 33 Закона об АО закрепляется, что размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если в соответствии с уставом общества ему принадлежит право принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Кроме того, у акционеров существует преимущественное право на приобретение конвертируемых облигаций (ст. 40 Закона об АО). Д.Г. Копылов подчеркивает, что такое преимущественное право обусловлено риском размытия пакетов акций для текущих акционеров 18.
Конвертируемый заем также является инструментом гибридного финансирования. На примере акционерного законодательства можно обнаружить, что договором конвертируемого займа признается договор займа, предусматривающий право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от заемщика, являющегося непубличным обществом, размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа) (ст. 32.3 Закона об АО).
М.Н. Илюшина отмечает, что «по сравнению с классическим договором займа в его природу вводится субъективное право заимодавца осуществить зачет своих требований и вместо денежных средств в счет возврата суммы займа потребовать от заемщика выполнения определенных корпоративных процедур по принятию его в состав участников» 19. Таким образом, именно возможность трансформации долгового обязательства в участие в уставном капитале, дополняющая обычное требование по договору займа, превращает такой договор в инструмент гибридного финансирования.
Поскольку требование займодавца при конвертации может затронуть права и интересы акционеров, на заключение (изменение, уступка) такого договора требуется предварительное согласие акционеров посредством принятия решения об увеличении его уставного капитала через размещение дополнительных акций займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа (пп. 6 и 7 ст. 32.3 Закона об АО).
Кроме того, трансформация долгового требования в участие в уставном капитале допускается посредством зачета требований к обществу. Согласно пункту 2 статьи 34 Закона об АО оплата дополнительных акций посредством зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения через закрытую подписку. Схожее положение обнаруживается и применительно к обществам с ограниченной ответственностью. Так, по решению общего собрания участников общества, принятому всеми его участниками единогласно, участники общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к обществу (пункт 4 статьи 19 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; далее – Закон об ООО).
На фоне увеличения количества способов трансформации долга в капитал представляется возможным развить эту идею – сразу привлекать долговое финансирование различного рода с условием о праве на конвертацию права требования по долговому обязательству в участие в уставном капитале. С экономической точки зрения такое предложение не представляется проблемным, поскольку в случае конвертации для юридического лица происходит изменение пассивов – уменьшается заемный капитал и увеличивается собственный капитал. Положение инвестора также не представляется уязвимым, поскольку «при трансформации денежных обязательств в увеличение уставного капитала кредитор приобретает статус участника хозяйственного общества. Дебиторская задолженность трансформируется в финансовые вложения. Размер активов кредитора на меняется» 20.
Также стоит рассмотреть долговые инструменты без возможности их конвертации в долевые инструменты, но с предоставлением кредиторам квазикорпоративных прав. Учитывая, что корпоративные права можно разделить на три группы (управленческие, имущественные и информационные) 21, логично рассмотреть аналоги таких прав у кредиторов по долговому финансированию.
С одной стороны, в наделении кредиторов управленческими правами, в целом, нет ничего загадочного. Например, из норм статьи 67.3 ГК РФ и статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» следует, что договор может быть основанием дочерности или группы лиц со свойственной ей аффилированностью. С другой стороны, такие договоры предполагают влияние на юридическое лицо вне рамок функционирования его органов управления, без непосредственного вмешательства в корпоративные процедуры. В связи с этим можно поставить вопрос о том, как суд отнесется к договору, который позволяет кредитору участво- вать в голосовании на общем собрании участников корпорации. Представляется, что, несмотря на свободу договора, суд, скорее всего, откажет в удовлетворении требований кредитора (например при оспаривании корпоративного решения, которое было принято без учета его голоса), посчитав, что право голоса может быть только у участников, а в случае оспаривания такого договора признает его недействительной сделкой, нарушающей требования закона (ст. 168 ГК РФ).
Вместе с тем вопрос о том, какие могут быть управленческие права у кредитора, позволяющие ему участвовать в корпоративных процедурах, остается открытым. В корпоративном праве Европейского союза отсутствуют директивы, закрепляющие подобные права. В то же время в Европейском модельном законе о компаниях (далее – EMCA) 22 (не является правовым актом) предусматривается свободное наделение кредиторов различными квазикорпоративными правами.
Так, в Sec. 6.16 EMCA обозначается, что «компания может выпускать финансовые инструменты, включающие экономические или административные права, даже в качестве вознаграждения за работы или услуги, предоставленные акционерами или третьими лицами. Эти финансовые инструменты могут включать права голоса по конкретно определенным вопросам, например, при назначении одного или нескольких директоров. Устав устанавливает порядок и условия выпуска, предоставляемые права, санкции в случае неисполнения обязательств и ограничения, если таковые имеются, на передачу таких инструментов». В комментарии к приведенному положению отмечается, что выпуск таких инструментов должен быть предусмотрен уставом, а для их введения требуется решение собрания акционеров.
Положения, касающиеся управленческих прав кредиторов, имеются в законода- тельстве отдельных государств. Например, опираясь на опыт Италии (ст. 2346 и 2351 Гражданского кодекса Италии 23), А. Викари пишет, что гибридное финансирование со стороны внешних кредиторов может быть сопряжено с предоставлением им таких специальных управленческих прав, как право голоса по некоторым трансакциям юридического лица, право присутствия на общем собрании участников корпорации или совета директоров для получения информации, право доступа к корпоративной документации, права, связанные с назначением независимого члена совета директоров или аудитора 24. В таком случае кредитор, предоставивший гибридное финансирование, не становится участником юридического лица, он получает права, которые в определенной степени похожи на права участника.
Имущественные права могут быть связаны с участием кредиторов в распределении прибыли. Дело в том, что по обычному долговому обязательству кредитор получает фиксированные платежи, которые не зависят от успешности экономической деятельности юридического лица. В случае гибридного финансирования право кредитора на погашение долга может быть привязано к денежному потоку, начисление и выплата процентов могут быть обусловлены решением о распределении прибыли и т. д.
Например, в Sec. 6.15 EMCA указывается, что «компания может выпускать долговые ценные бумаги, в которых вознаграждение или погашение капитала зависят от экономических показателей эмитента». В этом контексте интерес представляет Закон Швеции о компаниях, где закреплена следующая норма: если по условиям договора размер процентов, подлежащих начислению по кредиту, или основная сумма долга должны увеличиться при увеличении прибыли компании или по мере увеличения дивидендов акционерам, то решение о получении обществом кредита должно быть принято общим собранием или с разрешения общего собрания советом директоров (§ 11 kap. 11) 25. Также стоит отметить статью 20 Королевского указа-закона 7/1996 Испании, в которой закреплены особенности долговых обязательств, связанных с участием в компании (prestamos participativos) 26. По такому договору кредитор будет получать переменные проценты, которые будут определяться в зависимости от развития деятельности компании-заемщика. Критерием для определения указанного развития может быть чистая прибыль, объем бизнеса, общий капитал или любой другой критерий, согласованный сторонами. Кроме того, они могут договориться о фиксированной процентной ставке независимо от развития деятельности. Долевые кредиты в порядке их очередности будут размещены после общих кредиторов. При этом предоставленное финансирование по договору будет считаться собственным капиталом для целей уменьшения капитала и ликвидации компаний, что предусмотрено коммерческим законодательством.
Таким образом, долговое обязательство может быть привязано к экономической деятельности юридического лица, в том числе к выплате дивидендов. Примечательно, что такие займы даже могут учитываться как собственный капитал. Кроме того, положение кредитора по такому долговому обязательству схоже с положением участника еще и тем, что такие требования понижаются в очередности по сравнению с другими кредиторами.
В качестве инструмента гибридного финансирования может выступать субординированный долг. Субординированный долг является младшим по отношению к обычному долгу. По этому поводу Ж. Тироль отмечает, что чем «младше» долг, тем выше его предполагаемая доходность, но одновременно и выше риск на случай банкротства 27. Таким образом, кредиторы по субординированному долгу претендуют на более высокую доходность, но берут на себя риск на случай банкротства, поэтому такие кредиторы тоже будут занимать промежуточное положение между обычными кредиторами и участниками.
Информационные права также могут включаться в набор прав, принадлежащих кредитору по долговому финансированию. С одной стороны, стороны обязательства должны обмениваться необходимой информацией (п. 3 ст. 307 ГК РФ). С другой стороны, такая информация касается прежде всего вопросов, связанных с динамикой такого обязательства.
В то же время проблема возникает в связи с получением кредитором специальной корпоративной информации, которая доступна только участникам (ст. 91 Закона об АО, ст. 50 Закона об ООО). Отношение суда к праву кредитора на получение корпоративной информации также будет неоднозначным. В пункте 8 Обобщения судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами 28 лишь отмечается, что, если информацию требует предоставить лицо, не являющееся участником общества, такой спор не будет являться корпоративным. Представляется, что в условиях жесткого разграничения прав в зависимости от формального титула суд откажет кредитору в получении такой информации.
Как можно заметить, проблема наделения кредиторов управленческими, имущественными и информационными правами имеет общий корень. При отсутствии соот- ветствующего правового регулирования существует риск нарушения баланса интересов участников и кредиторов, а также риск неоднозначного отношения суда к подобным инструментам финансирования. Представляется, что в России правовое регулирование финансирования юридических лиц также должно допускать предоставление кредиторам управленческих прав за счет диспозитивных или даже императивных норм. Такая логика может быть распространена на информационные и имущественные права, в силу которых кредиторы приобретут возможность получать корпоративную информацию, участвовать в распределении прибыли или иным образом привязывать свои права к успеху экономической деятельности юридического лица. При этом конкретные управленческие, имущественные и информационные права, которыми допустимо наделять кредиторов, стоит обусловить целями и ценностями, закладываемыми в общую модель правового регулирования экономической деятельности, рассчитанную на определенные сценарии и цели макроэкономического развития.
Перспективы правового обеспечения гибридного финансирования в России
Несмотря на то что в российском праве уже предусмотрены специальные правовые режимы для отдельных инструментов гибридного финансирования (например привилегированные акции, конвертируемые облигации и т. п.), требуется дальнейшая теоретическая проработка мер правового обеспечения этого способа финансирования.
При принятии решений об использовании тех или иных инструментов гибридного финансирования могут быть затронуты права и интересы как акционеров, так и кредиторов, поэтому право должно обеспечить баланс соответствующих групп инвесторов.
Важно определить, как именно будут приниматься подобные решения. Представляется, что в условиях действующего позитивного права могут быть предложены три варианта:
-
1) решение будет приниматься менеджментом в рамках оперативного решения задач по оптимизации корпоративного капитала;
-
2) решение будет приниматься менеджментом, но только в случаях и по процедуре, которые будут предусмотрены в уставе;
-
3) решение будет приниматься менеджментом, но только в случаях и по процедуре, которые будут предусмотрены непосредственно в законе.
Учитывая потенциальную опасность гибридного финансирования как для кредиторов, так и для его участников, первый вариант решения проблемы видится необоснованным. Однако при этом для каждого юридического лица может быть предусмотрен свой подход к принятию решений. Например, для юридических лиц из сферы венчурного инвестирования, IT-сектора и т. д. можно предусмотреть более свободный вариант решения вопросов, дать им возможность закреплять в своих уставах основания и процедуру выпуска инструментов гибридного финансирования. В то же время для иных юридических лиц, деятельность которых не связана с повышенным риском, разумно предусмотреть такие основания и порядок непосредственно в законе. Таким образом, правовой режим принятия решений о привлечении гибридного финансирования можно поставить в зависимость от вида экономической деятельности, коэффициентов риска, а также от иных экономических характеристик (показателей), которые могут индивидуализировать конкретное юридическое лицо, привлекающее инвестиции. В любом случае подобные сделки должны совершаться при получении корпоративного согласования. Показательно, что привилегированные акции, конвертируемые облигации или конвертируемые займы выпускаются по решению высшего органа управления (или коллегиального органа управления).
Другой вопрос касается того, насколько широко можно использовать инструменты гибридного финансирования при наделении кредиторов правами и обязанностями, которые характерны для участников. Если отдельные права на информацию, участие в распределении прибыли и отдельные управленческие права уже были рассмотрены, то можно поставить общий вопрос о допустимости наделения кредиторов всеми правами, которыми наделены участники (по статье 65.2 ГК РФ), включая права на косвенные иски об оспаривании сделок, о привлечении директора к гражданско-правовой ответственности. С одной стороны, четкое разграничение корпоративных и договорных отношений заставляет дать отрицательный ответ. С другой стороны, владельцы привилегированных акций все же получают право голоса в определенных случаях (зарубежный опыт показывает, что кредиторы по долговым обязательствам также могут получать отдельные права). При решении вопроса о допустимости наделения гибридных кредиторов правами и обязанностями участников стоит учитывать как риски, так и возможные положительные эффекты. Например, вполне допустима ситуация, когда кредитор по субординированному займу будет недоволен выводом активов из юридического лица, что увеличивает риск банкротства. В таком случае право на косвенный иск (или его инициацию) может выступить эффективным способом реагирования на действия, нарушающие интересы юридического лица и непосредственно такого кредитора. Таким образом, ориентируясь на существующий зарубежный опыт (например Италия, Швеция, Испания), можно сделать вывод о том, что законодательный подход регулирования гибридного финансирования должен допускать возможность наделения кредиторов правами, которые свойственны участникам. При этом стоит отметить, что кредиторам не может быть автоматически предоставлен весь набор прав, которые имеют обычные участники. В связи с этим при признании за кредиторами квазикорпоративных прав на уровне закона должен применяться дифференцированный подход, в котором учитываются различные параметрические ситуации экономической деятельности юридических лиц.
В то же время наделение гибридных кредиторов квазикорпоративными правами предполагает и возложение определенных обязанностей, а также принятие соответствующих рисков. В частности, интересной является проблема субординации требований гибридных кредиторов при банкротстве юридического лица. Например, А.И. Шайдуллин упоминает мезонинное финансирование, но не рассматривает его применительно к проблеме субординации 29. Представляется, что само по себе промежуточное положение кредитора не влияет на субординацию его требования. Согласно Обзору судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц 30 субординация зависит не от статуса участника или кредитора, а от наличия аффилированности (контроля), которая может быть присуща как участнику, так и кредитору, и если кредитор по долговому обязательству эффективно влияет на деятельность юридического лица и знает о наличии у него имущественного кризиса, то его требование подлежит субординации.
Заключение
Таким образом, доктринальный аспект научной новизны проведенного исследования заключается в том, что гибридное финансирование ставит под сомнение дихотомическое деление корпоративного капитала на собственный и заемный капиталы, указывает на условность жесткого деления правоотношений на корпоративные и договорные, а инвесторов – на участников и кредиторов. Инструменты гибридного финансирования позволяют гибко определять права, обязанности и риски инвесторов в соответствии с определенными условиями финансирования. В связи с этим при формировании модели правового регулирования финансирования юридических лиц правовое положение инвесторов должно ставиться в зависимость не от формального статуса участника или кредитора, а от фактических прав и обязанностей, предусмотренных финансовым инструментом. Следовательно, при приближении к положению участника кредитор может получать такие права, которые характерны для участника, и наоборот. Реализация таких прав может быть обусловлена и иными обстоятельствами и экономическими характеристиками.
Развитие правового регулирования гибридного финансирования предполагает более тщательную балансировку прав и интересов гибридных кредиторов, участников и кредиторов по долговым обязательствам. Внедрение различных инструментов гибридного финансирования должно обеспечиваться либо императивными нормами права, либо диспозитивными нормами, допускающими особые условия в договоре с инвесторами или уставе. В целом, дальнейшее развитие модели правового обеспечения гибридного финансирования может быть связано с легализацией в отношении различных организационно-правовых форм юридических лиц таких инструментов, которые, с одной стороны, позволяли бы увеличивать собственный капитал, но не давали бы инвесторам всех прав, свойственных участникам (по типу привилегированных акций), с другой стороны, позволяли бы увеличивать заемный капитал с возможностью конвертации в долевое участие или с предоставлением кредиторам квазикорпоративных прав (управленческих, имущественных, информационных).
года // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2024, № 1 (часть I), ст. 12.
Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 11.12.2023). URL: https://www. ;262 (дата обращения: 24.12.2023).

Список литературы Гибридное (мезонинное) финансирование юридических лиц: вопросы правового регулирования
- Фабоцци Ф. Финансовые инструменты / пер. с англ. Е. Востриковой, Д. Ковалевского, М. Орлова. М.: Эксмо, 2010. 864 с.
- Петрикова Е. М. Мезонинный кредит как альтернатива проектного финансирования инвестиционных проектов // Финансы и кредит. 2013. № 28. С. 39-47.
- Бондаренко Т. Г., Жданова О. А. Финансовое обеспечение экономических субъектов российского агропромышленного комплекса: монография. М.: РУСАЙНС, 2019. 126 с.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ: в редакции от 24 июля 2023 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2023, № 31 (часть III), ст. 5777.
- Тироль Ж. Теория корпоративных финансов: в 2 кн. / пер. с англ. под науч. ред. Н. А. Ранневой. М.: Издательский дом «Дело», 2017. Кн. 1. 672 с.
- Lorenzo Sasso. Capital Structure and Corporate Governance: The Role of Hybrid Financial Instruments: A thesis submitted to the Department of Law of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy. 2012. 232 p.
- Виницкая Л. А. Правовое регулирование долгового финансирования как способа привлечения инвестиций: дис.... канд. юрид. наук. М., 2022. 291 с.
- Пыркова Г. Х. Мезонинное финансирование как источник финансирования на современном этапе развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18. № 7. С. 1151-1158.
- Кузнецов А. А. Переход доли в уставном капитале (акций): практические и теоретические проблемы (начало) // Вестник гражданского права. 2023. № 3. С. 62-98.
- Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / под. общ. ред. В. А. Белова. 2-е изд. М.: Юрайт, 2016. 552 с.
- Лаптев В. А. Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем: монография. М.: Проспект, 2019. 384 с.
- Степанов Д. И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 2009. № 3. С. 142-206.
- McLaughlin S. Unlocking Company Law. Abingdon ; New York: Routledge, 2013. 430 p.
- Alchian A. A., Demsetz H. Production, Information Costs, and Economic Organization // The American Economic Review. 1972. V. 62. № 5. Pp. 777-795.
- The anatomy of corporate law: А comparative and functional approach. Third Edition. Oxford: Oxford University Press. 2017. 281 p.
- Степанов Д. И. Экономический анализ корпоративного права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 9. С. 104-167.
- О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ: в редакции от 4 августа 2023 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2023, № 32 (часть I), ст. 6174.
- О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ: в редакции от 4 августа 2023 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31 (часть I), ст. 5018; (2023, № 32 (часть I), ст. 6174.
- Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ: в редакции от 25 декабря 2023 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2024, № 1 (часть I), ст. 12.
- Глушецкий А. А. Уставный капитал акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью: стереотипы и их преодоление. Экономический анализ норм корпоративного права. М.: Статут, 2023. 264 с.
- Балюк И. А. Международное долговое финансирование: основные формы и механизмы: монография. М.: КноРус, 2020. 188 с.
- Копылов Д. Г. Привлечение финансирования за счет размещения облигаций, конвертируемых в акции // Право и бизнес. 2023. № 2. С. 26-32.
- Илюшина М. Н. Договор конвертируемого займа как новый договорно-обя-зательственный механизм регулирования корпоративных отношений в обществах с ограниченной ответственностью // Гражданское право. 2022. № 3. С. 31-35.
- Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ: в редакции от 13 июня 2023 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2023, № 25, ст. 4438.
- О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ: в редакции от 10 июля 2023 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434; 2023, № 29, ст. 5319.
- European Model Companies Act. First edition, 2017. URL: https://ssrn.com/ab stract=2929348 (дата обращения: 04.02.2024).
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11.12.2023). URL: https://www. normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codi ce.civile:1942-03-16;262 (дата обращения: 24.12.2023).
- Vicari A. European Company Law. Berlin ; Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2021. 327 p.
- Aktiebolagslag (2005:551). URL: https:// www.lagboken.se/Lagboken/start/associatio nsratt/aktiebolagslag-2005551/d_4340-aktie bolagslag-2005_551 (дата обращения: 03.02. 2024).
- Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. URL: https://noticias.juridicas. com/base_datos/Fiscal/rdl7-1996.t2.html#a20 (дата обращения: 03.02.2024).
- Обобщение судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами: утверждено Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15 ноября 2023 года. Доступ из любой поисковой системы.
- Шайдуллин А. И. Субординация обязательственных требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц в делах о банкротстве хозяйственных обществ: дис.... канд. юрид. наук. М., 2022. 251 с.
- Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц: утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29 января 2020 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2020. № 7.