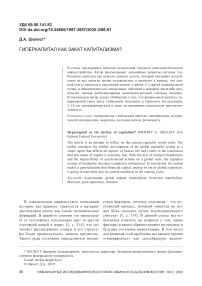Гиперкапитал как закат капитализма?
Автор: Шелест Дмитрий Александрович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Теоретическое измерение общества
Статья в выпуске: 2 (52), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка осмысления текущего капиталистического мироустройства. Автор рассматривает дальнейшее развитие системы глобального капитала как некоего единого агента, который оказывает воздействие на все аспекты жизни человечества, и приходит к выводу, что данный статус капитала в настоящий момент утрачен. С утратой национальной почвы и невозможностью синхронных действий в мировом масштабе происходит полная разбалансировка капиталистической системы модерна. В заключении автор делает обобщение о том, что финансовый капитал, завершающий свою эпоху глобальной экспансии, в горизонте последующих 5-10 лет трансформируется в свою сегодняшнюю социальную противоположность.
Гиперкапитал, глобальный капитал, империализм, исторический материализм, марксизм, посткапитализм, ризомность
Короткий адрес: https://sciup.org/170175946
IDR: 170175946 | УДК: 09.00.141.82 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-2/86-91
Текст научной статьи Гиперкапитал как закат капитализма?
В классическом марксистском понимании история, как правило, трактуется в материалистическом ключе как смена экономических формаций. В какой-то степени это проистекает от гегелевских «следующих друг за другом состояний вещей в мире» [5, c. 314], что позволяет рассматривать социум и его структуры более процессуально, нежели предметно. Такого рода состояния определяются множе- ством факторов, поэтому состояния – это постоянный процесс, который «никогда не может быть закончен путем последовательного синтеза» [5, с. 314]. В данной статье мы попытаемся ответить на вопросы о том, какие факторы и каким образом влияют на текущее и будущее состояние цивилизации. В том числе для решения этой проблемы мы введем термин «гиперкапитал» как своеобразную величи- ну, подводящую итог изучения капитализма в марксистской парадигме.
Если мы рассматриваем состояния социального организма, мы обязаны делать акцент на невозможности последовательного снятия определенного статуса системы. И в этом отношении переход капитализма в иную форму, социалистическую, осмысливается как последовательный синтез, вытекающий из самого процесса развития капиталистических отношений. Сам процесс развития предполагает поглощение мелких собственников и производителей крупным капиталом, причем этот «закон столь же имманентен частной собственности, как и все другие законы» [16, c. 569]. Параллельно с этим структурировалось «созданное банкирами господство банка в государстве, концентрация имущества в руках банкиров, этого политико-экономического ареопага нации» [9, с. 368]. Позднее и более подробно алгоритм укрупнения капитала описал Карл Маркс в программной работе «Капитал» (1878 г.). И если такие последователи марксизма, как Карл Каутский, допускали длительную возможность существования капитализма, то Владимир Ильич Ленин напрямую утверждал, что существующий общественный строй подошел в своем развитии к последней стадии – империализму, за которой последует крах капиталистической экономики.
В.И. Ленин, опираясь на работы Гильфер-динга, Каутского, Кестнера, Лифмана и других современников, дал подробное описание современного ему империализма. Прежде всего, новое состояние капиталистического общества характеризовалось тем, что «свободный рынок все более отходит в область прошлого, монополистические синдикаты и тресты все более урезывают его» [8, c. 704]. Возрастает власть финансового капитала, который становится решающей силой «во всех экономических и во всех международных отношениях» [8, с. 703]. При этом «финансовый капитал и тресты не ослабляют, а усиливают различия между быстротой роста разных частей всемирного хозяйства» [8, с. 715]. Сложившаяся в результате упомянутых процессов монополизация ключевых секторов экономики порождает стагнацию в сфере развития науки, техники и социальных отношений. А уже следствием этого в развитом мире выступают периоды войн и мировых соглашений, которые становятся отражением «форм мирной и немирной борьбы из одной и той же почвы империалистических связей и взаимо- отношений всемирного хозяйства и всемирной политики» [8, с. 735].
Рассматривая период 1945–1991 гг., российский историк и философ Ю.И. Семенов пишет следующее: «Все центральные страны вместе взятые превратились в своеобразного коллективного империалиста. Империализм перерос в ультраимпериализм» [12, с. 479]. Определенным симптомом стало развитие таких надгосударственных институтов, как Всемирная торговая организация, Североатлантический союз, Североамериканское соглашение о свободной торговле, Организация стран-экспортеров нефти и др. Все перечисленные структуры, равно как и политические партии, транснациональные корпорации, финансово-промышленные группы, региональные ассоциации образовали к концу ХХ в. глобальный конгломерат, существовавший в парадигме империалистической экономики. Как следствие, капитал, доминирующий во всех социальных сферах, путем многочисленной и разветвленной сети своих операторов и агентов фактически завершил движение, обозначенное французским экономистом Мишелем Альбером как «капитализм вместо государства» [1, с. 268].
Следует отметить, что приведенные выше тезисы не являются устаревшими или несовременными в отношении капиталистического общества в начале XXI в., но нуждаются в дополнительных характеристиках упомянутого процесса. Развитие любого явления или процесса предусматривает и его снятие, согласно законам гегелевской диалектики, в рамках перехода количественных изменений в качественно иной порядок. Условный пик был достигнут миром капитала к концу ХХ – началу XXI вв., когда «триумф неолиберализма был закреплен в начале 2000-х годов идеологически» [7, с. 34]. Это выразилось в состоянии, которое российские марксисты А.В. Бузгалин и А.И. Калганов описали как мир глобального капитала: полного развертывания капиталистических отношений, структурно охватывающих всю человеческую цивилизацию и определяющих все взаимодействия элементов мирового сообщества [3]. Авторы много сделали для исследования упомянутого феномена, однако введение самого термина «глобальный капитал» предполагает дальнейшее изучение атрибуций капитализма XXI в., равно как и временны́ х границы его существования. Далее мы будем использовать термин гиперкапитал как синоним выражений
«глобальный капитал» и «ультраимпериализм». В рефлексии упомянутых авторов гиперкапитал предполагает регрессию капиталистического строя, который фактически по-гегелевски «отрицает себя в самом себе и полагает себя как иное самого себя» [5, с. 246]. Причем одно из видовых свойств гиперкапитал – глобализация капиталов и их сращивание с наднациональной бюрократией – и дает вектор к самоотрицанию. Термин фиксирует утверждение А.В. Бузгали-на и А.И. Калганова как гипотезу относительно того, что текущее состояние капиталистической системы – это последняя стадия рассматриваемой экономической формации. В подобных рамках формируется и реализует свои свойства гиперкапитал. Причем он сам уже несет в себе черты иной мировой системы как следствие снятия накопленных противоречий [3, т. 1, с. 308, 309, 382, 383].
В описанных условиях попытки операторов и бенефициаров капиталистического общества нивелировать противоречия не могут реализоваться системно. Достаточно обратиться к работе Томаса Пикетти «Капитал в XXI веке», чтобы понять: завуалированные проблемы неравенства в период противостояния двух систем в XX в. обретают вопиющие черты в текущем столетии. «Самая бедная половина населения по-прежнему не владеет ничем, зато сегодня существует имущественный средний класс, которому принадлежит от четверти до трети всего имущества, а 10% самых богатых владеют двумя третями всего имущества» [11, с. 376]. Одновременно «новый экономический порядок породил большое число “плохих” рабочих мест и весьма ограниченное количество “хороших”, требующих очень высокого уровня подготовки, знаний и часто связей» [7, с. 35].
Дальнейшее развитие системы глобального капитала как некоего единого агента оказывает воздействие на все аспекты жизни человечества, меняя саму структуру цивилизации. Фактически такое положение дел предполагает, что гиперкапитал знаменует собой окончание эпохи модерна. И когда Валлерстайн утверждает, что новый мировой порядок будет более походить на XIV в., чем на XIX в., он исходит из ви́ дения рассыпающихся элементов капитализма, что, по его мнению, не предполагает автоматическое возведение столь ожидаемого «светлого будущего» [4]. Новая форма присутствия капитала постепенно приобретает черты анти-капитала в марксовом понимании этого термина. «Клас- сический» капитал в его стремлении к упорядоченности и монополизации рынков создал то, что на сегодняшний день российские марксисты и назвали глобальным капиталом. Эта форма капитала утратила системность в рамках классического марксистского дискурса в силу невозможности синхронно действовать в мировом масштабе при утрате национальной почвы, что повлекло за собой полную разбалансировку капиталистической системы модерна. Гиперкапитал XXI в. не заинтересован и не может действовать в условиях стабильности. Глобальные рынки в условиях неравновесности всей мировой системы поощряют мгновенное перемещение капитала, которое, метафорически выражаясь, напоминает мгновенное возгорание (взрыв). Продукты реакции улетучиваются, а на месте проектной деятельности гиперкапитала, по аналогии с действием взрывчатого вещества, остается «выжженная земля», другими словами – место с истощенной экономикой. Естественно, что «детонация» происходит в месте максимального извлечения прибыли. Фактически капитал становится слишком быстрым для человеческой цивилизации [2]. Вместе с тем подобное состояние стимулирует производительные силы и производственные отношения к поступательному развитию в новом направлении экономики, что уже предполагает расширение и размывание понятия собственности как таковой, не говоря уже об ограниченных рамках частнособственнических отношений [10].
При этом до сих пор не были предприняты попытки представить, как долго просуществует состояние гиперкапитала. Такой вопрос не является праздным и с практической точки зрения, так как подобная система неравновесна изначально, а ее трансформация влечет за собой трагический исход для мирового сообщества. В качестве гипотезы выдвинем тезис о том, что системообразующие элементы глобального капитала – транснациональные корпорации (ТНК) находятся в состоянии перенапряжения всех видов ресурсов. Подобное состояние ТНК как структурообразующей институции позднего капитализма ведет к ресурсному (природному, антропологическому, духовному и т.д.) перенапряжению всей цивилизации.
Таким образом, «сверхускорение» капитализма в его ультраимпериалистической фазе, «износ» операторов капиталистических отношений и предел возможностей в принятии решений бенефициаров существующей фор- мации можно трактовать как знаки окончания сложившихся экономических и социальных отношений. В свою очередь нынешние «гиперкапиталистические» отношения в соответствии с гегелевским снятием понижаются в своем ранге, «теряя свою самостоятельность, которая, как первоначально представлялось, была им присуща», «низводятся до моментов, еще различимых, но в то же время снятых» [5, с. 166]. Исходя из этого посыла, мы можем утверждать, что в капиталистическом обществе происходит не просто трансформация, но распад сложившихся отношений. «Именно этот этап возникновения в недрах капитализма ростков пострыночных отношений, отрицающих качество, сущность капитала, но вместе с тем дающих капитализму новый импульс развития, мы и будем называть поздним капитализмом, эпохой “заката” капитализма» [3, т. 2, с. 17]. Вместе с тем капиталистические структуры либо «борются друг с другом, отчаянно пытаясь справиться с тенденцией к снижению доходности», «либо им удается добиться того, что труду достается все меньшая часть национального дохода, что в конечном итоге приведет к пролетарской революции и ко всеобщей экспроприации» [11, с. 232]. Складывающиеся условия допускают борьбу с капитализмом как закономерность в изначальном, классическом подходе, декларируемом Карлом Марксом, то есть борьбу во всемирном масштабе с глобализованным капиталом.
Текущая ситуация пиковых возможностей капитализма оборачивается иными состояниями в общественной, политической и экономической жизни. Это смыкание глобальных экономических игроков и с государствами пребывания, и с государствами юрисдикции, формирование значительной некоммерческой, внеэкономической сферы и симбиотических форм капитала в этих областях. Возрастает «риск восстановления имущественного неравенства в масштабах, схожих с уровнем, достигнутым в прошлом, и даже превосходящих его в определенных смыслах» [11, с. 375], что, по мнению ряда исследователей, воспроизводит черты нового рабства [17]. Существует опасность регрессивной реакции капитала, которая может проявляться как возрождение нацистских и расистских идеологий и иметь своим следствием милитаризацию и войну [3]. В этих условиях параллельное процессу глобализации состояние глокализа-ции реализуется в новых границах [14], и существует угроза олигархического передела мира, так называемое «расхождение олигархического типа» [11, с. 464].
Говоря об изначальном подходе Карла Маркса к демонтажу капиталистического строя, следует упомянуть не только революционную борьбу как прямое насильственное противостояние бенефициарам, проводникам и агентам капитализма. Речь идет о ситуативной трансформации имеющихся общественных институтов. Это переход к ассоциированным общественным формам организации собственности, то есть возрождение кооперации; возврат к общечеловеческим ценностям применительно к национальным государствам, то есть с опорой на традиционные морально-этические ценности, увязанные с понятиями свободы и освобождения; расширение творческой сферы при одновременном сокращении рыночных механизмов, влияющих на нее; поддержка анти-гегемонистских движений, направленных на борьбу с доминированием финансового капитала. Фактически об этом говорил Ги Дебор в 1960-х гг.: «Избавиться от материальных оснований обращенной истины – вот в чем состоит самоосвобождение нашей эпохи» [6, с. 114]. В любом случае, такие процессы способны воздействовать на глобальный капитал: утрачивая одни свойства, современный капитал будет приобретать модусы, отличающие его от предыдущего состояния. И если сегодня капитализм существует как финансовый капитал, завершающий свою глобальную экспансию, то в будущем он обретет новое устремление под воздействием противоположенных сегодняшнему дню социальных тенденций, о которых говорилось выше. Уместно предположить, что основное свойство капитала недалекого будущего – это смещение в «мицелиарность» или «ризомность», то есть формирование процесса, напоминающего ризому Жиля Делеза: несистемное распространение, неконтролируемые рост и угасание, отсутствие единого центра, локализация процессов развития и т.д. Сходство с грибницей обусловливается несистемным проникновением, разнонаправленностью отдельных гиф (объектов интереса), большой плотностью со стороны субъекта (ТНК, ПФГ). Таким образом, гиперкапитал начинает движение от глобальной метафинансовой системы к макрофинансовым системам, которые могут действовать внутри одной страны (в большей степени) при минимуме участия в глобальных проектах. Одновременно он образует синерге- тическую связь с государством-субстратом и проникает в объекты некоммерческих отношений (НКО, СМИ).
Подобного рода изменения не могли остаться незамеченными для исследователей в рамках марксистского и постмарксистских направлений. Так, Ник Срничек говорит о посткапитализме – системе, к которой капитализм шел с 1970-х гг., постепенно видоизменяясь. Упомянутая трансформация привела к структурным изменениям, когда «данные как ресурс стали перемещаться с периферии в самую сердцевину бизнеса» [13, с. 39]. Однако в понимании автора это имплицитно предполагает консервацию основ капиталистических отношений на высокотехнологичной основе. В какой-то степени тезис Срничека перекликается с «капитализмом наблюдения» американского философа Шошаны Зубофф: surveillance capitalism – это всего лишь одна из форм освоения данных, которая имеет сходство с оруэлловскими мотивами [18]. У Бориса Кагарлицкого рассматриваемая трансформация ведет к новому варианту антиутопии: «Неолиберальные структуры формируют зависимость человека от государства, рост бюрократии и клиентских отношений» [7, с. 29–30]. Томас Пикетти усматривает позитивные возможности в исходе из существующих социально экономических отношений: «Можно представить, что получат развитие новые децентрализованные и партисипативные формы управления, которые позволят эффективно руководить намного более масштабным государственным сектором, чем тот, что существует сегодня» [11, с. 482]. В качестве одного из вариантов развития мировой системы ранее нами была предложена концепция «Мир ртути» как формирование локальных социально-экономических кластеров с различными специализациями в биоинженерии [15].
В любом случае вне зависимости от возможностей технологического уклада, государственных мер в области макроэкономического регулирования или шагов мирового сообщества в экономической сфере глобальный капитал или ультраимпериализм подошел к границам своих возможностей. При этом реверсивный исход не представляется возможным, а «завтрашний день» социально-экономического развития цивилизации не будет представлять собой картину текущего момента. Для поступательного развития человечества «нужно изобрести новые инструменты, которые позволят вновь установить контроль над обезумевшим финансовым капитализмом и вместе с тем провести обновление и глубокую долговременную модернизацию систем налогообложения и расходов» [11, с. 472]. В свою очередь трансформация гиперкапитала возможна, когда «на место стихийного, не поддающегося управлению социального процесса» придет «сознательное социальное творчество» [10, с. 444], осознанная революционная деятельность в широком смысле этого слова.
Таким образом, можно предположить, что в мировом масштабе открывается «окно возможностей», которое позволяет снять гегемонию капиталистической системы в стадии глобального капитала путем постепенного ненасильственного демонтажа структур упомянутой формации. Причем, вне зависимости от использования терминологии, касающейся дальнейшего общественного устройства (социализм, коммунизм и т.п.), возможно движение к максимуму социальной стабильности и развития. В противном случае мировое сообщество может столкнуться с катастрофической деградацией социального ландшафта, возрождением распределения в масштабе всей цивилизации, популистских диктатур и (или) глобальных революционных преобразований.
Список литературы Гиперкапитал как закат капитализма?
- Альбер М. Капитализм против капитализма. СПб.: Экономическая школа, 1998.
- Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.
- Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х т. М.: URSS, 2018.
- Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М.: Логос, 2004.
- Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1970.
- Дебор Г. Общество спектакля. М.: Логос, 2000.
- Кагарлицкий Б.Ю. Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017.
- Ленин В.И. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 1. Империализм как высшая стадия капитализма. М.: Политиздат, 1966.
- Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ранние философские работы. М.: Академический проект, 2010.
- Ойзерман Т.И. Избранные труды. В 5-ти т. Т. 1. Возникновение марксизма. М.: Наука, 2014.
- Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем, 2015.
- Семенов Ю.И. Философия истории. Общая теория исторического процесса. М.: Академический проект; Трикста, 2013.
- Срничек Н. Капитализм платформ. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019.
- Хазин М. Каким будет мир следующие 50 лет [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://youtu.be/eW1NG8MqqRI
- Шелест Д. Хаос будущего: Мир ртути. Владивосток: Русский остров, 2016.
- Энгельс Ф. Наброски к критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений в 50-ти т. Т. 1. М.: Политиздат, 1955. С. 544-571.
- Bell, P. and Cleaver, H., 1982. Marx's theory of crisis as a theory of class struggle. Research in Political Economy, Vol. 5, pp. 189-261.
- Zuboff, S., 2019. The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power. London: Profile Books.