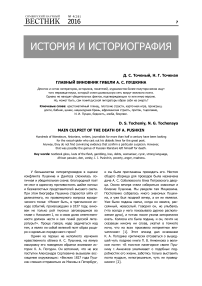Главный виновник гибели А. С. Пушкина
Автор: Точеный Д.С., Точеная Н.Г.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 4 (26), 2016 года.
Бесплатный доступ
Десятки и сотни литераторов, историков, писателей, журналистов более полутора веков ищут того мерзавца-паука, который сплел дьявольскую сеть вокруг великого поэта. Однако не находят убедительных фактов, подтверждающих ту или иную версию. Но, может быть, сам гений русской литературы обрек себя на смерть?
Хрестоматийный глянец, плотские страсти, карточная игра, проигрыш, долги, бабник, циник, нецензурная брань, африканская страсть, притон, тщеславие, и. и. пущин, бедность, злоба, безумие
Короткий адрес: https://sciup.org/14114207
IDR: 14114207
Текст научной статьи Главный виновник гибели А. С. Пушкина
У большинства литературоведов в оценке конфликта Пушкина и Дантеса сложилась логичная и убедительная схема: благородный поэт не смог в одиночку противостоять шайке наглых и безжалостных представителей высшего света. При этом биографы Пушкина стараются уйти от деликатного, но правомерного вопроса юридического толка: «Может быть, в трагическом исходе событий, произошедших в 1837 году, виновен не только рой гнусных заговорщиков во главе с Николаем I, но и свою долю ответственности должен нести и сам гений русской литературы?». Проще говоря, надо задуматься над тем, а являл ли собой великий поэт образ рыцаря и идеально порядочного героя?
Одним из первых на неполноту изучения нравственного облика А. С. Пушкина, на явную лакировку его поведения обратил внимание историк К. А. Погодин. Он вспомнил, что не все поступки Александра Сергеевича вызывали восхищение окружающих: «Весною 1827 года Пушкин спешил отправиться из Москвы в Петербург, и мы были приглашены проводить его. Местом общего сборища для проводов была назначена дача А. С. Соболевского близ Петровского дворца. Около вечера стали собираться знакомые и близкие Пушкина. Мы увидели там Мицкевича. Постепенно собралось много знакомых Пушкина, и уже был поздний вечер, а он не являлся. Уже были поданы свечи, когда он явился, рассеянный, невеселый. Говорил он, не улыбаясь (что всегда у него показывало дурное расположение духа), и тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска его была подана, и он, почти не сказавши никому ни слова, укатил в темноте ночи, что на всех произвело неприятное впечатление» [1]. Этот эпизод дал основание К. А. Погодину критически отозваться о вышедшей чуть позднее книге П. В. Анненкова о великом поэте: «В толстом панегирике своем Пушкину г. Анненков умалчивает о подобных подробностях его жизни, заботясь только выставить поэта мудрым, непогрешимым, чуть не праведником» [2].
Против наведения хрестоматийного глянца на великого поэта также возражала М. Цветаева. Она доказывала, что он был соткан из противоречивых черт: «И предательство в любви, и верность в дружбе, и сыновнесть своим дурным и бездарным родителям, и неверность — идеям или лицам? (нынче ода декабристам, завтра послание их убийце), и ревность в браке, и неверность в браке, — Пушкин дружбы, Пушкин брака, Пушкин бунта, Пушкин трона, Пушкин няни, Пушкин «Гавриилиады», Пушкин церкви, Пушкин — бесчисленности своих ликов и обличий — все это спаяно и держится в нем одним — поэтом» [3]. Но это в теории. А на практике последовать призыву М. Цветаевой было очень трудно. Отечественные исследователи, находясь под гипнозом прекрасных произведений А. С. Пушкина, в подавляющем большинстве пели хвалу любому деянию гения. Говорить о его недостатках в характере, ошибках, просчетах, психологических срывах почти никто не отваживался. Над всеми довлела привычная концепция: трагедия Пушкина была обусловлена только монархически-полицейским гнетом. Великий поэт в различных биографических изданиях неизменно возвышался над кликой царедворцев, клеветников, завистников, травивших его. Даже над родственниками, которые тоже олицетворяли худшие черты светской черни.
«Мать с отцом, — писал в 1969 году о родителях великого поэта советский литературовед Б. Шатилов, — относились к сыну равнодушно, холодно. Он был крайне самолюбив, а они часто оскорбляли его самолюбие, смеялись над ним; мальчик не прощал этого, замыкался, жил своей жизнью». «Неуимчивый», вспыльчивый, острый на язык, он никому не давал спуску. Родители тяготились им, а он тяготился родителями и думал лишь об одном: как бы вырваться из родительского дома, где так много мелочных дрязг, унижений, пересудов, внешней пышности и мелочных, скаредных расчетов малодушного и ленивого отца. Надежда Осиповна не меньше мужа была занята веселой светской жизнью, балами, театрами и управляла хозяйством крайне нелепо. То она всюду замечала в доме одни недостатки, становилась придирчивой, взыскательной и весь свой гнев и вспыльчивость обрушивала на голову «распущенной» дворни, то вдруг ей все надоедало, и она равнодушно смотрела на все безобразия, какие у нее творились на глазах. Она не умела, да и не любила заниматься серьезными делами» [4].
Столь же негативную оценку отцу и матери А. С. Пушкина давали большинство биографов великого поэта. «Родители, — отметил, например, в 1994 году В. И. Кулешов, — не всегда ладили, и в семье возникали ссоры надолго. Сергей Львович, человек поверхностный, слабохарактерный, скупой, мало занимался семьей. Он любил все делать напоказ. Духовной близости между отцом и сыном никогда не возникало. Александра он не любил за строптивость, непослушание, самостоятельность, которой он сам был лишен. Большие осложнения в семейную жизнь вносила Надежда Осиповна, женщина вспыльчивая, даже деспотичная, наказывавшая детей за каждую провинность. Она любила блистать в свете, слыла модницей. Но за порядком в доме не смотрела. Все тут было не прибрано, расставлено кое-как, несмотря на большое число слуг» [5].
Относительно правдивые повествования о родителях Пушкина преследовали почти у всех биографов одну цель: показать, что даже такие никчемные родители, как Сергей Львович и Надежда Осиповна, не смогли испортить их сына Александра, что талантливому юноше не повредили издержки семейного воспитания. Только в годы распада СССР летопись жизни поэта стала медленно, постепенно сбрасывать «бронзы мно-гопудье», нравственный облик его начал приобретать реальные очертания, избавляясь от иконописных наслоений. Российская массовая читательская публика получила возможность познакомиться с давно забытыми мемуарными зарисовками, рассказывающими не только о положительных, но и отрицательных чертах Александра Сергеевича.
Многих поклонников поэта поразили воспоминания барона М. А. Корфа: «Не только воспитывавшись с Пушкиным шесть лет в лицее, но и прожив с ним еще потом лет пять под одною крышею (на Фонтанке. — Авт.), я знал его короче многих, хотя связь наша никогда не переходила обыкновенную приятельскую. Все семейство Пушкиных представляло что-то эксцентрическое. Дом их всегда был наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой — пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, с баснословной неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана. Все это перешло и на детей. Пушкин ни на школьной скамье, ни после, в свете, не имел ничего привлекательного в своем обращении. Беседы ровной, систематической, связной у него совсем не было; были только вспышки: резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэти- ческая мысль, но все это только изредка или урывками. Начав еще в лицее, он после, в свете, предался всем возможным распутствам и проводил дни и ночи в беспрерывной цепи вакханалии и оргий, с первыми и самыми отъявленными тогдашними повесами. Пушкин не был создан ни для службы, ни для света, ни даже — думаю — для истинной дружбы. У него были только две стихии: удовлетворение плотским страстям и поэзия, и в обеих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии» [6].
С мнением М. А. Корфа частично или полностью согласились некоторые пушкиноведы. Е. Стеценко подчеркнул правоту барона, отметившего наличие у Пушкина бешеной вспыльчивости и необузданной африканской страсти, которые он унаследовал от матери [7]. А. Тырко-ва-Вильямс тоже не возражала против тезиса о том, что великий поэт не получил от Надежды Осиповны необходимого душевного тепла: «Взбалмошная, она умела быть злопамятной. Рассердится и целый год не разговаривает с девятилетним сыном. Суровость капризной воспитательницы не смягчалась ни любовью, ни чуткостью» [8]. Понятно, что такая мать могла только травмировать психику Александра Сергеевича.
Закономерно, что в детские и юношеские годы поэт не приобрел такие крайне необходимые качества, как коммуникабельность, прагматизм, здравомыслие, практичность. Это зафиксировал И. И. Пущин, самый лучший друг поэта в лицее: «Пушкин, с самого начала, был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило. Главное — ему недоставало того, что называется тактом, это — капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудрено, почти невозможно, при совершенно бесцеремонном обращении, уберечься от некоторых столкновений повседневной жизни» [9]. Такое же впечатление о Пушкине сложилось еще у одного бывшего лицеиста — А. М. Горчакова: «Я не могу не испытывать к нему большой симпатии, основанной на воспоминаниях молодости и восхищении, которое всегда вызывал во мне его поэтический талант. Его поведение было, впрочем, всегда нелепым, и, надо признаться, что одна лишь ангельская доброта государя могла не утомиться обращать- ся с ним с той снисходительностью, которой он не всегда заслуживал» [10].
Период конца ХХ — начала ХХI века принес новые разочарования тем, кто относился к поэту романтически-благовейно. К огорчению таких почитателей, декабрист Н. В. Басаргин в своих мемуарах, опубликованных во время перестройки Горбачева, выплеснул явную неприязнь к знаменитому поэту: «В Одессе (в 1823 году. — Авт. ) я встретил Пушкина. Он служил тогда в Бессарабии при генерале Инзове. Я еще прежде этого имел случай видеть его в Тульчи-не у Киселева. Знаком я с ним не был, но в обществе раза три встречал. Как человек, он мне тогда не понравился. Какое-то бретерство, высокомерие и желание осмеять, уколоть других. Тогда же многие из знавших его говорили, что рано или поздно, а умереть ему на дуэли. В Кишиневе он имел несколько поединков» [11].
Слегка приуныли и поклонники, исповедовавшие коммунистические идеи. Они привыкли видеть в молодом Пушкине неистового бунтаря, чуть ли не пламенного, целеустремленного борца с царским режимом. И вдруг их глазам предстала статья Г. Смирнова, в которой рассказывалось о поездке правительственного секретного агента Александра Бошняка в 1826 году в Псковскую губернию. Он был командирован с тайным поручением «исследовать поведение известного стихотворца» и установить, не подбивает ли тот крестьян к восстанию. Объехав под видом любителя ботаники поместья, рынки и постоялые дворы, Бошняк пришел к заключению: «Пушкин столь болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его себе присвоить; он человек, желающий отличить себя странностями, но вовсе неспособный к основанному на расчете ходу действий» [12].
При отсутствии элементарного воспитания (а откуда оно могло появиться при феноменальной вздорности родителей) А. С. Пушкин без конца ссорился с окружающими безо всяких на то оснований. Многих коробил безграничный цинизм великого поэта. Весною 1829 года С. Т. Аксаков с возмущением писал С. П. Шевы-реву: «С неделю назад я завтракал с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Погодина. Первый держал себя ужасно гадко, отвратительно, второй прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что Мицкевич два раза был принужден сказать: «Господа! Порядочные люди и наедине с собой не говорят таких вещей» [13]. Разумеется, такого рода инциденты не только не украшали, но явно позорили, компрометировали Александра Сергеевича. Пытаясь как-то смазать тяжелое впечатление от поведения великого поэта, выходящего за рамки приличия, известная пушкинистка А. Тыркова-Вильямс писала: «Мицкевич был человек сдержанный, застенчивый, целомудренный. Ему не нравились кутежи его русских друзей, их привычка к словесному цинизму. Когда Пушкин отпускал непристойные шутки, Мицкевич останавливал его. Пушкин много преодолел в себе еще до встречи с Мицкевичем; но, быть может, тихая, чистая вдумчивость польского поэта помогла ему в работе над собой» [14]. Нам кажется, что А. Тыркова-Виль-ямс высказала неоправданно оптимистическое предположение. Вряд ли что могло изменить Пушкина в нравственном отношении.
Размышляя о моральном облике поэта, В. В. Вересаев пришел к выводу: «Все, знавшие Пушкина, дружно свидетельствуют об исключительном цинизме, отличавшем его отношение к женщинам, — цинизме, поражавшем даже в то достаточно циничное время» [15].
Действительно, пошлость, скабрезность и непристойность, проявляемые Александром Сергеевичем, потрясающи. Взять хотя бы характеристику поэтом А. П. Керн как «божества» и «гения чистой красоты», с одной стороны, а с другой — употребление по отношению к ней нецензурной брани [16]. Кстати, не устной, а письменной, до чего опускались разве что И. В. Сталин и его верный сатрап Л. М. Каганович.
Пушкин А. С. не стеснялся открыто говорить о пользе и выгоде циничного отношения к слабому полу. В 1828 году он признался в письме к своей приятельнице Е. М. Хитрово (дочери полководца М. И. Кутузова): «Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки! С ними гораздо проще и удобнее. Хотите, я буду совершенно откровенен? Может быть, я изящен и благовоспитан в своих писаниях, но сердце мое совершенно вульгарно, и наклонности у меня совершенно мещанские» [17]. В соответствии с этой жизненной философией он с юности и едва ли не до последних дней пребывания на белом свете являлся частым посетителем сомнительных притонов. Сообщая об этом, А. Тыркова-Вильямс старается уйти от прямой оценки таких «подвигов» поэта: «Эта сторона мужской жизни находит себе из века в век разные толкования и оправдания» [18]. На наш взгляд, визиты Александра Сергеевича в злачные места не только подрывали его авторитет, но и осложняли отношения с порядочной частью высшего общества, а главное — разрушали семейный очаг великого художника слова.
Решение жениться на Н. Н. Гончаровой, основанное на цинично-эгоистическом расчете и чувственно-сладострастном увлечении, практически лишало поэта перспектив на строительство уютного домашнего очага. Прав оказался П. П. Перцов, заметивший в конце ХIХ века: «Итак, он ясно сознавал, что невеста к нему равнодушна, что как муж он не даст нужного ей счастья (ведь не гениальных стихов ей от него было нужно, как нам, читателям; эти стихи только мешали ей), он все же не поколебался пожертвовать ею для себя» [19].
В постсоветский период отечественные историки тоже обратили внимание на то, что А. С. Пушкин при заключении уз Гименея не проявил по отношению к Н. Н. Гончаровой элементарной порядочности и доброты. «Он чувствовал, — подчеркнул Е. Рябцев, — что Натали его не почитает, что ему нечем ее заинтересовать и увлечь. Поэт видел, что девушка честно исполняет свой долг, но сексуальной страстности в ней нет, как нет, может быть, и большой любви. Религиозное воспитание сделало свое дело — Натали исполняла свои супружеские обязанности без особого чувства, хотя и ревновала Пушкина к другим женщинам» [20]. Еще категоричнее высказался А. Аринштейн: «Увы, это было самым печальным — Пушкин отчетливо сознавал, что ему предстоит брак с женщиной, которая в лучшем случае его терпит, но не любит» [21]. Биограф Н. Н. Пушкиной В. Старк, написавший о ней содержательную книгу, с сожалением констатировал: великий поэт на глазах у жены ухаживал, доводя ее до отчаяния и открытого возмущения, за А. Крюднер, Н. Соллогуб, А. Россет-Смирновой, Д. Фикельмон [22]. В. Н. Балязин, ссылаясь на мемуары А. П. Араповой — дочери Н. Н. Пушкиной и П. П. Ланского, сообщает, что великий поэт нередко по вечерам уходил из дома и «только с зарей возвращался домой, проводя ночи то за картами, то в веселых кутежах в обществе женщин известной категории. Сам ревнивый до безумия, он даже мысленно не останавливался на сердечной тоске, испытываемой тщетно ожидавшей его женою, и часто, смеясь, посвящал ее в свои любовные похождения» [23].
Мы привыкли и не сомневаемся, что А. С. Пушкин преклонялся перед Натальей Николаевной, искренно восхищался ее фантастической красотой, называл своей мадонной. Казалось, эти истины стали неоспоримыми для россиян. Но как их сообразовать, например, с письмом А. С. Пушкина к своей жене, отправленным 22 сентября 1832 года. В нем, как ин- формирует нас В. Старк, поэт, измученный тяжелой дорогой, «угостил» ее непечатным выражением: «Насилу дотащился в Москву». Тут он, не удержавшись, даже выругался по матушке [24]. А вот образчик более чем странных, откровенно грубых и пошлых наставлений Александра Сергеевича, высказанных им Наталье Николаевне в послании из Болдино 30 октября 1833 года: «Ты, кажется, не путем искокетнича-лась. Смотри: недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая (---); есть чему радоваться!» [25]. Благо, что редакция 10-томного собрания сочинений А. С. Пушкина приняла разумное решение: вынести за скобки нецензурную брань, употребляемую поэтом в письмах к своей мадонне. (А то бы впечатление от его нравоучений любимой супруге было совсем уж тягостное.) Ничего удивительного, что Ж. Дантес, вежливый, остроумный, благожелательный и должным образом воспитанный, более нравился Наталье Николаевне, нежели муж.
Подрывал авторитет великого поэта и в глазах жены, и во мнении света ужасающий порок — пристрастие к игре в карты на деньги. Он лег тяжким бременем на его нервную систему. Об этом грехе с огорчением писали современники автора «Евгения Онегина». К. А. Полевой рассказал о встрече с ним в 1828 году в петербургской гостинице «Демут»: «Иногда я заставал А. С. Пушкина за карточным столиком, обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать было нельзя; после нескольких слов я уходил, оставляя его продолжать игру. Известно, что он вел довольно сильную игру и чаще всего продувался в пух! Жалко было смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупою страстью!» [26]. Свидетелем болезненного интереса стал в 1829 году М. И. Пущин, встретивший поэта на Кавказе: Александр Сергеевич за две-три недели жизни в Пятигорске проиграл малознакомому офицеру Павловского полка Астафьеву тысячу червонцев, «взятых им у Раевского на дорогу». А около Кисловодска поэт «продул» сарапульскому городничему Дурову еще пять тысяч, которые ему пришлось занять у наказного атамана [27].
О пагубной страсти А. С. Пушкина советским литературоведам, естественно, было запрещено упоминать. Русским эмигрантам об этом тоже как-то неловко говорить. Поведала о позорной слабости поэта разве только А. Тыр- кова-Вильямс. Но сделала она это в привычном, мягком, адвокатском стиле: «Талейран, Лев Толстой, Некрасов, Достоевский — все они не могли устоять перед азартом карточной игры. Пушкин начал играть сразу после Лицея, может быть, даже в Лицее, когда сдружился с гусарами. Он вообще редко выигрывал, а проигрывать случалось ему суммы для него очень крупные. Делал он это с той же иронической беспечностью, с какой шел на поединок. Играть он мог и с горя, и с радости. Просто играл, потому что был игрок» [28]. Однако поправим А. Тыркову-Вильямс: если Талейрану и другим перечисленным историческим фигурам пиковая дама несколько осложнила жизнь, то нашему поэту она сломала ее.
«Вступая в брак, — сообщает историк Р. Г. Скрынников, — Пушкин дал зарок не садиться за карточный стол и в течение трех лет держал слово. После отъезда жены в деревню летом 1834 года он не устоял против соблазна. 3 июня Пушкин не без гордости записал в дневник: «Вечер у Смирновых; играл, выиграл 1200 р.». Несколько дней спустя Пушкин повел крупную игру в Английском клубе. 8 июня он сообщил жене: «Для развлечения вздумал было я в клубе играть, но принужден был остановиться. Игра волнует меня — а желчь не унимается». Поэт остановил игру из-за проигрыша. В том же письме он обещал Наталье Николаевне «не забывать о долге перед детьми» [29]. Однако 28 июня А. С. Пушкин признался своей жене, что проиграл все деньги. Сумма проигрыша составляла около 25 000 рублей — пятилетнее жалование поэта. Р. Г. Скрынников считает, что эта финансовая потеря положила начало краху материального благополучия семьи Пушкиных, лишила спокойствия и в конечном счете стала одной из главных причин преждевременной гибели великого поэта. Возникает естественный вопрос: «Могла ли Наталия Николаевна, мать четверых детей, уважать (о любви и речи не могло быть) своего мужа, легкомысленно и бездумно проигрывавшего столь значительные суммы?».
Конечно, Пушкин вынужден был лихорадочно искать средства для поддержания в обществе реноме представителя старинного дворянского рода. Большие средства требовались для содержания приличной петербургской квартиры и одежды для выхода в свет своей жены — первой столичной красавицы. Поиск денег — и немалых — стал постоянной головной болью Александра Сергеевича. Он доводил его нередко до отчаяния.
К несчастию, А. С. Пушкина одолевало тщеславие, ему хотелось выглядеть в глазах петербургской знати весьма значительной фигурой. Наличие кичливости и чванства, неприятной спеси у него отмечали с сожалением многие друзья и знакомые. Вспоминая дружеские встречи с поэтом после окончания лицея, И. И. Пущин настойчиво подчеркивал: «Тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! В Россию скачет» и другие мелочи в том же духе. Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственною улыбкою выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак — он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом смотришь: Пушкин опять с тогдашними львами! Странное смешение в этом великолепном создании!» [30]. Эта черта поведения, не украшавшая поэта, сохранилась в нем до конца жизни.
В начале 1837 года цензор А. В. Никитенко с грустью констатировал: «Вечер провел у Плетнева. Там был Пушкин; он все еще на меня дуется. Он сделался большим аристократом. Как обидно, что он так мало ценит себя как человека и поэта и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. Он хочет прежде быть барином, но ведь барин тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеманный тон, эта утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опала. А ведь он умный человек, помимо своего таланта» [31].
Дружить со светскими львами, не имея необходимых средств, было делом сложным, даже нереальным. А. С. Пушкин пытается, опять-таки периодически проигрывая немалые суммы, пополнить свой бюджет, напоминающий худое решето. Он пробует что-то выжать из своих имений. Однако хозяйственных навыков у поэта, выросшего в безалаберной семье, не было. Историк С. Экштут правильно оценил качества Пушкина-помещика: «Ни сам Александр Сергеевич, ни его отец Сергей Львович нисколько не радели о благоденствии своих крепостных и за- нимались хозяйством из рук вон плохо: даже точное количество земли в Михайловском им было неведомо. Полагали, что земли там 700 десятин, а на поверку оказалось без малого 2000. Вот почему управляющие обкрадывали их без зазрения совести» [32]. А. С. Пушкин и сам признавался в отсутствии у него интереса и способностей к ведению хозяйственно-экономических дел. Так, он писал 29 июня 1834 года П. А. Осиповой: «Не имея намерение поселиться в Болдине, я не могу и помышлять о том, чтобы восстановить имение, которое, между нами говоря, близко к полному разорению. Крестьяне так обнищали, и дела идут так худо. Вы не можете себе представить, до чего управление этим имением мне в тягость» [33]. Было от чего печалиться великому поэту.
Чтобы как-нибудь заткнуть свои финансовые прорехи, Александр Сергеевич решил издавать журнал «Современник». Но дело, которое обещало 40 тысяч рублей годового дохода, с треском провалилось. Причины краха этого биз-нес-предприятия раскрыли современники поэта. «Пушкин, — пояснил подоплеку банкротства «Современника» П. А. Вяземский, — и сам одно время, очень непродолжительное, был журналистом. Он на веку своем написал несколько острых и бойких журнальных статей; но журнальное дело не было его делом. Он не имел ни достойных качеств, ни погрешностей, свойственных и даже нужных присяжному журналисту. Он отрезвился и познал всю суетность и, можно сказать, горечь этого упоения. Журналист — поставщик и слуга публики. А Пушкин не мог быть ничьим слугою. Срочная работа была не по нем. Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале. Думал, что совладает с журнальным предприятием не хуже другого. Не боги же обжигают горшки. Нет, не боги, а горшечники, но он именно не был горшечником. Таким образом, он ошибся и обчелся и в литературном, и денежном отношении. Пушкин не только не заботился о своем журнале с родительской нежностью, он почти пренебрегал им» [34]. Беспомощность поэта в издательских делах отметил и известный журналист А. А. Краевский: «Говорил я Пушкину о присылке в Москву «Современника» на комиссию. Он отвечал ни то, ни се. Беззаботность его может взбесить и агнца» [35].
Наблюдая за поведением великого поэта, Н. М. Смирнов заключил, что бедность подвела к последней черте: «Домашние нужды имели большое влияние на нрав его; с большой гру- стью вспоминаю, как он, придя к нам, ходил печально по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторял: «Грустно! Тоска!». Я уверен, что беспокойство о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главною причиной той раздражительности, которую он показывал в происшествиях, бывших причиною его смерти» [36].
Литературовед А. Лукьянов верно обрисовал внутреннее состояние автора «Евгения Онегина» в последние годы: «Истерический характер поэта вступил в противоречие с тем, чего хотел добиться Пушкин — славы, спокойной семейной жизни, благосклонности царя, твердого материального положения. Но получилось все наоборот. Сильный невроз, развивающийся на почве ревности, ущемленной гордости, полного финансового краха, направлял поэта к совершению необычных, не объяснимых житейской логикой поступков. Подавленные инстинктивные силы его вырвались наружу в виде безудержного гнева и неоправданных действий» [37].
В 1836 году он вызывает на дуэль С. С. Хлюс-тина, Н. Г. Репнина-Волконского, В. А. Сологуба, которые ровным счетом ничем его не задели, не обидели и даже не дали никакого повода на этот счет. Н. Я. Эйдельман считает, что во всех трех случаях поэт «в состоянии крайнего возбуждения подозревает малознакомых людей в оскорблении его чести, «задирает», ищет поединка». Все три состоявшиеся схватки уладились благодаря сдержанности оппонентов поэта [38].
К сожалению, не удалось погасить бешеную ненависть А. С. Пушкина к Ж. Дантесу. Следует учесть, что поэт от природы был невероятно ревнив. Здесь подходит, как нельзя кстати, банальное определение «африканская страсть». «Пушкин, — полагает А. Аринштейн, — просто физически не мог выносить мужчину рядом с понравившейся ему женщиной. Никакие соображения справедливости, супружеских уз и т. п. при этом значения не имели. Он шел напролом и искал ссоры» [39].
Трудно представить ужас душевного состояния поэта, когда он почувствовал, что красивый француз-кавалергард нравится Наталье Николаевне. Бедный (в прямом и переносном смысле) Пушкин, опутанный долгами, униженный равнодушием (закономерным) жены, маленьким ростом, неказистой внешностью, своим безволием карточного порока, оскорбленный слухами о растущих у него на лбу рогах, мечется в поисках выхода из кошмарной ситуации. Была ли она абсолютно безнадежной? Нет, убе- жден философ В. С. Соловьев: «Нет такого житейского положения, хотя бы возникшего по нашей собственной вине, из которого нельзя бы по доброй воле выйти достойным образом. Светлый ум Пушкина хорошо понимал, чего от него требовали его высшее призвание и христианские убеждения: он знал, что должен делать, но все более и более отдавался страсти оскорбленного самолюбия с ее ложным стыдом и злобою мстительности» [40]. «Последние полгода жизни, — соглашается с В. С. Соловьевым В. В. Вересаев, — Пушкин захлебывается в волнах непрерывного бешенства, злобы, ревности, отчаяния. И впереди только одно — замаскированное самоубийство» [41].
Жалея своего мужа, Наталья Николаевна, как сообщает в своих воспоминаниях К. К. Дан-зас, «предлагала ему уехать с нею на время куда-нибудь из Петербурга, но Пушкин, потеряв всякое терпение, решился кончить это иначе. Он написал барону Геккерну в весьма сильных выражениях известное письмо, которое и было окончательной причиной роковой дуэли нашего поэта» [42].
Пожалуй, самый исчерпывающий комментарий этому документу дал П. Е. Щеголев: «26 января (1837 года. — Авт. ) Пушкин отправил барону Геккерну письмо, в котором, по выражению князя Вяземского, он излил все свое бешенство, всю скорбь раздраженного, оскорбленного сердца своего, желая, жаждая развязки, и пером, смоченным в желчи, запятнал неизгладимыми поношениями и старика, и молодого (Ж. Дантеса). Письмо нужно было лишь как символ нанесения неизгладимой обиды, и этой цели оно удовлетворяло вполне — даже в такой мере, что ни один из друзей Пушкина, ни один из светских людей, ни один дипломат, ни сам Николай Павлович не могли извинить Пушкину этого письма» [43].
Процитируем один из абзацев письма Александра Сергеевича нидерландскому посланнику барону Геккерну: «Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой и еще менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец». Оценивая стиль и лексику этого документа, И. Ободовская и М. Дементьев при- шли к выводу: «Это в высшей степени оскорбительное письмо, конечно, не предполагало иной реакции со стороны Геккернов, как вызов на дуэль» [44].
После поединка Ж. Дантес — А. С. Пушкин утекло немало времени. Но по-прежнему идут горячие споры о том, кто же более виновен в гибели великого поэта. Абсолютное большинство исследователей придерживается того мнения, что смерть поэта является результатом козней многочисленных врагов — внутренних и внешних. Однако с момента гибели Александра Сергеевича высказывались предположения о том, что и сам поэт в той или иной степени предопределил свою трагическую судьбу.
Хомяков А. писал 1 февраля 1837 года из Москвы в Симбирскую губернию поэту Н. М. Языкову: «Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от нее отделаться или ее возобновить» [45]. 12 февраля 1837 года известный сибирский писатель И. Т. Калашников следующим образом истолковал причину смерти Александра Сергеевича: «Ужасное безумие умнейшего человека» [46]. В этом же духе высказался накануне распада СССР Б. Бур-сов: «Пушкин на протяжении всей своей жизни любил заигрывать со смертью, что было одним из решающих свойств его характера и дарования» [47]. О мере вины Пушкина и других действующих лиц в трагических событиях 1837 года, наверное, наиболее четко и определенно сказал Ю. Дружников: «И не в измене жены причина. Не в Дантесе, не в царе, словом, не в злобном окружении, где вот уже полтораста лет пытаются найти виновных, чтобы обелить поэта. Первопричина трагедии в самом Пушкине, в его состоянии. Оно объясняет его последние шаги: упрямство и несговорчивость, злобу и ненависть. Жизнь стала труднее смерти» [48].
Мы считаем, что Ю. Дружников прав.
-
1. Полевой К. А. Из «Записок» // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. С. 70—71.
-
2. Там же.
-
3. Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1981. С. 131.
-
4. Шатилов Б. Пушкин. М., 1969. С. 16, 21.
-
5. Кулешов В. И. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1994. С. 5—6.
-
6. Корф М. А. Записка о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. СПб., 1998. С. 103—104.
-
7. Стеценко Е. Просчет барона Геккерна. Краснодар, 2011. С. 45.
-
8. Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 1. М., 1998. С. 45.
-
9. Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988. С. 42—43.
-
10. Смирнов Г. «России сердце не забудет!» Заметки о Пушкине // Пушкинский сборник. Народное образование. 2009. № 5. С. 183.
-
11. Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 68.
-
12. Смирнов Г. Указ. соч. С. 183.
-
13. Вересаев В. В. В двух планах // Пушкин : Антология. М., 2000. С. 561.
-
14. Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 1998. С. 195.
-
15. Вересаев В. В. Указ. соч. С. 561.
-
16. Мурзина М. Дуэлянт. Бабник... // Аргументы и факты. М., 2014. № 23. С. 15.
-
17. Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 9. М., 1962. С. 284.
-
18. Балязин В. Н. Неофициальная история России. М., 2008. С. 470; Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 1998. С. 131—132.
-
19. Перцов П. П. Смерть Пушкина // Пушкин : Антология. Т. 1. М., 1998. С. 355.
-
20. Рябцев Е. 113 прелестниц Пушкина. Ростов н/Д., 1999. С. 453—454.
-
21. Аринштейн Л. Непричесанная биография. М., 2011. С. 188.
-
22. Старк В. Наталья Гончарова. М., 2010. С. 8, 256.
-
23. Балязин В. Н. Указ. соч. С. 470.
-
24. Старк В. Указ. соч. С. 200.
-
25. Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 10. М., 1962. С. 147— 148.
-
26. Полевой К. А. Указ. соч. С. 71—72.
-
27. Пущин М. И. Встреча с Пушкиным за Кавказом // Пущин М. И. Записки о Пушкине. М., 1988. С. 412—413.
-
28. Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 1998. С. 186—187.
-
29. Скрынников Р. Г. Дуэль Пушкина. СПб., 1999. С. 117.
-
30. Пущин И. И. Записки о Пушкине… С. 58.
-
31. Последний год жизни Пушкина. М., 1989. С. 430.
-
32. Экштут С. Увижу ль, о друзья! Народ неугнетенный… // Родина. 2008. Февр. № 2. С. 54.
-
33. Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 10. С. 204.
-
34. Последний год жизни Пушкина… С. 76.
-
35. Там же. С. 111.
-
36. Там же. С. 347—348.
-
37. Лукьянов А. Александр Пушкин в любви. Ростов н/Д., 1999. С. 452—453.
-
38. Эйдельман Н. Я. Статьи о Пушкине. М., 2000. С. 398.
-
39. Аринштейн Л. Указ. соч. С. 98.
-
40. Цит. по: Кожевников В. А. «Вся жизнь, вся душа и любовь». М., 1993. С. 125.
-
41. Вересаев В. В. В двух планах (О творчестве Пушкина) : Антология. М., 2000. С. 557.
-
42. Данзас К. К. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина в записи А. Амосова // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1985. С. 369.
-
43. Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. М., 1987. С. 116—117.
-
44. Ободовская И., Дементьев М. Наталия Николаевна Гончарова. М., 1985. С. 202—203.
-
45. Последний год жизни Пушкина… С. 632.
-
46. Там же. С. 622.
-
47. Бурсов Б. Судьба Пушкина. Л., 1989. С. 511.
-
48. Дружников Ю. Узник России. М., 2003. С. 554.
Список литературы Главный виновник гибели А. С. Пушкина
- Полевой К. А. Из «Записок»//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. С. 70-71.
- Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1981. С. 131.
- Шатилов Б. Пушкин. М., 1969. С. 16, 21.
- Кулешов В. И. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1994. С. 5-6.
- Корф М. А. Записка о Пушкине//Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. СПб., 1998. С. 103-104.
- Стеценко Е. Просчет барона Геккерна. Краснодар, 2011. С. 45.
- Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 1. М., 1998. С. 45.
- Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988. С. 42-43.
- Смирнов Г. «России сердце не забудет!» Заметки о Пушкине//Пушкинский сборник. Народное образование. 2009. № 5. С. 183.
- Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 68.
- Вересаев В. В. В двух планах//Пушкин: Антология. М., 2000. С. 561.
- Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 1998. С. 195.
- Мурзина М. Дуэлянт. Бабник..//Аргументы и факты. М., 2014. № 23. С. 15.
- Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 9. М., 1962. С. 284.
- Балязин В. Н. Неофициальная история России. М., 2008. С. 470; Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 1998. С. 131-132.
- Перцов П. П. Смерть Пушкина//Пушкин: Антология. Т. 1. М., 1998. С. 355.
- Рябцев Е. 113 прелестниц Пушкина. Ростов н/Д., 1999. С. 453-454.
- Аринштейн Л. Непричесанная биография. М., 2011. С. 188.
- Старк В. Наталья Гончарова. М., 2010. С. 8, 256.
- Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 10. М., 1962. С. 147-148.
- Пущин М. И.Встреча с Пушкиным за Кавказом//Пущин М. И. Записки о Пушкине. М., 1988. С. 412-413.
- Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 1998. С. 186-187.
- Скрынников Р. Г. Дуэль Пушкина. СПб., 1999. С. 117.
- Последний год жизни Пушкина. М., 1989. С. 430.
- Экштут С. Увижу ль, о друзья! Народ неугнетенный.//Родина. 2008. Февр. № 2. С. 54.
- Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 10. С. 204.
- Последний год жизни Пушкина. С. 76.
- Лукьянов А. Александр Пушкин в любви. Ростов н/Д., 1999. С. 452-453.
- Эйдельман Н. Я. Статьи о Пушкине. М., 2000. С. 398.
- Кожевников В. А. «Вся жизнь, вся душа и любовь». М., 1993. С. 125.
- Вересаев В. В. В двух планах (О творчестве Пушкина): Антология. М., 2000. С. 557.
- Данзас К. К. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина в записи А. Амосова//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1985. С. 369.
- Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. М., 1987. С. 116-117.
- Ободовская И., Дементьев М. Наталия Николаевна Гончарова. М., 1985. С. 202-203.
- Бурсов Б. Судьба Пушкина. Л., 1989. С. 511.
- Дружников Ю. Узник России. М., 2003. С. 554.