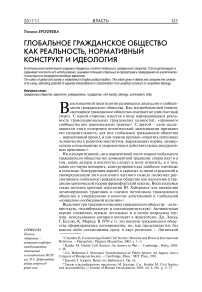Глобальное гражданское общество как реальность, нормативный конструкт и идеология
Автор: Ерофеева Полина Андреевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 11, 2011 года.
Бесплатный доступ
В англоязычной политической традиции утвердилось понятие глобального гражданского общества. Статья детализирует и сравнивает контексты его использования, оценивая потенциал отдельных интерпретаций к превращению из аналитического конструкта в конкурентоспособную идеологию.
Гражданское общество, идеология, универсализм, государство
Короткий адрес: https://sciup.org/170165623
IDR: 170165623
Текст научной статьи Глобальное гражданское общество как реальность, нормативный конструкт и идеология
В англоязычной политологии развивается дискуссия о глобализации гражданского общества. Как востребованный термин, «всемирное гражданское общество» вмещает не один частный смысл. С одной стороны, имеется в виду нарождающаяся реальность транснациональных гражданских ценностей, «правового сообщества вне национальных границ»1. С другой – сами исследователи этого измерения политической эмансипации признают его умозрительность: для них глобальное гражданское общество – нормативный проект, и сам термин призван «охватить потенциал человечества к развитию институтов, выражающих нормы, универсально согласованные и укорененные в действительных дискурсивных практиках»2.
Ни в дескриптивной, ни в нормативной части теории глобального гражданского общества нет доминантной традиции: споры идут и о том, какие акторы и институты следует к нему относить, и о том, какие его черты поощрять, конструировать как наиболее значимые и полезные. Конкуренция версий и скрытых за ними стремлений к универсализации того или иного частного смысла позволяет рассматривать глобальное гражданское общество как идеологию в традиции критической теории франкфуртской школы. Воспользуемся также методом критики идеологии Ю. Хабермаса3 для выявления доминирующих трактовок и оценки потенциала гражданского общества к утверждению в качестве действенной и глобальной «социально необходимой иллюзии»4.
ЕРОФЕЕВА
Полина
Выделяют три традиции описания гражданского общества – активистскую, неолиберальную и постмодернистскую5. Активистская версия сложилась прежде остальных и в целом возродила термин, использование которого восходит к Аристотелю, Дж. Локку, Г. Гегелю, К. Марксу. В 1970-е гг. это понятие гражданского общества сформировалось одновременно, но, как представляется, без какого-либо согласования сразу в двух регионах – Латинской
Америке и Восточной Европе, поскольку наиболее удачно описывало усилия по созданию автономного общественного пространства в условиях авторитаризма – военных диктатур в первом случае и коммунистических режимов – во втором. В Латинской Америке интеллектуалы, которые использовали это понятие, вдохновлялись сочинениями А. Грамши, писавшего о гражданском обществе как отдельном измерении социального бытия, а также идеями теологии освобождения, в то время как в Восточной Европе к распространению термина привели события Пражской весны и связанное с ними разочарование в способности государства к переменам «сверху». Идея гражданского общества в обоих контекстах состояла в том, что невозможно изменить государство, необходимо менять отношения общества и государства посредством самоорганизации, создания институтов, независимых от государства, неприкосновенных для него. В Северной Америке, Западной Европе, а также Индии такое понимание гражданского общества было позднее интерпретировано как «новая политика», или «антиполитика», – сфера вне политических идеологий и партий, где граждане взаимодействуют в целях демократизации, но не захвата власти в традиционном смысле. Основными субъектами гражданского общества в этой трактовке считают «новые» социальные движения, сложившиеся в период после 1968 г. в протесте против репрессивных институтов государства и движимые идеологией личной автономии, невмешательства государства в частную повседневность.
Вторую традицию гражданского общества характеризуют как неолиберальную, она связана с идеями «третьего сектора», развивавшимися преимущественно в США в 1970–80-х гг. Понятие третьего, или некоммерческого, сектора было призвано осмыслить и поощрить существование в Штатах целого класса организаций, не контролируемых правительством и рынком, но играющих важную роль в улучшении работы обоих. Такая версия гражданского общества наследует идеям А. Токвиля об ассоциировании, а также связана с неолиберальной установкой на минимизацию полномочий государства. Основными членами гражданского общества по этой версии являются неправительственные организации – професси- ональные ценностно-ориентированные объединения, созданные в целях оказания гуманитарной помощи и услуг для «уязвимых» общин и категорий граждан. Такие организации проявляют б6льшую гибкость, чем правительственные, более эффективны и склонны к инновациям, поэтому могут взять на себя некоторые функции государства, оказывая социально значимые услуги.
В основе постмодернистской интерпретации гражданского общества лежит культурный релятивизм, скептицизм в отношении универсальности термина. Исследователи постмодернистского толка заключают, что гражданское общество – это западный конструкт, ставший неомо-дернистским мифом, нарративом с само-легитимацией1. Подчеркивается, что вне Западной Европы и Северной Америки структуры гражданского общества в традиционном понимании едва развиты даже в крупных городах, и в то же время существует огромное количество религиозных объединений и кланов, независимых от государства и формирующих автономное социальное пространство, участки альтернативной власти и уклада. Несмотря на то, что не всегда такие группы добровольны или представляют нечто большее, чем механизм социального подавления (в частности, женщин), постмодернистское видение предлагает не разделять гражданское общество на западное – «хорошее» и восточное – «плохое», а пользоваться понятием нейтрально, с учетом культурных вариаций.
Рассматривая все три традиции освещения феномена, М. Калдор замечает, что «неолиберальное» гражданское общество находится сегодня в наиболее выгодном положении, поскольку именно эта его версия была в 1990-е гг. воспринята донорами в лице корпораций, правительств развитых стран и межправительственных агентств. Придя в развивающиеся и переходные общества, профессиональные неправительственные организации получили финансовую поддержку, поскольку обеспечивали своеобразную «подушку безопасности» в период системных реформ, предотвращая ошибки в ходе их реализации, связанные с коррупцией, бюрократией или неэффективностью чиновничьего аппарата. Таким обра- зом, можно заключить, что при наличии ресурсов и лояльности со стороны государственных и рыночных акторов именно неолиберальное гражданское общество, понятое как совокупность институционализированных, профессиональных, адаптивных гражданских структур, имеет б6льшие шансы к универсализации в качестве общей идеологии, в то время как другие типы гражданских объединений могут быть маргинализированы ввиду их полулегального характера, колеблющейся прагматики или сопротивления глобализации рынка и политическим режимам западного образца.
В свою очередь, теоретики глобального гражданского общества избегают решительных упрощений и, как правило, предлагают понимать глобальное гражданское общество объемно, в складывающемся триединстве. М. Калдор подчеркивает, что гражданское общество составляют группы, индивиды и институты, независимые от государства и в то же время поглощенные общественным интересом, однако в него не входят группы, пропагандирующие насилие, а также «преступники и капиталисты»1.
Традиционная политическая теория не может объяснить отдельные успехи лобби организаций гражданского общества при отсутствии у них таких ресурсов, как у корпораций, и такого потенциала к мобилизации электората, как у рабочего движения, поэтому в основе теории лежит предположение о способности государств к пересмотру своих интересов в процессе социализации, а не политического торга или шантажа. Подразумевается, что глобальное гражданское общество должно стать платформой для такой социализации, разработки многосторонних решений на основе «цивилизованной» комму-никации2, т.е. с верой в то, что причиной конфликта всегда является непонимание – коммуникативная неудача, а не столкновение принципиальных интересов.
Апелляция к неким коммуникативным нормам любопытна в свете современных изысканий в области социолингвистики. Сравнительный анализ практик говорения в речевых сообществах мира демонстрирует повсеместное признание моральной ценности коммуникации, т.е. и вне нормативной теории глобального гражданского общества существует представление о том, что регулирование конфликтов – это коммуникативная задача, решаемая при наличии «правильной» коммуникативной стратегии. Социолингвистические исследования также регистрируют становление единого, глобального стандарта такой стратегии. Д. Камерон выделяет пять принципов, его составляющих: отказ от молчания, прямота высказывания, неформальность как показатель эгалитарного характера общения, выразительность как свидетельство искренности, вежливое дружелюбие как индикатор готовности к сотрудничеству3. Этот стандарт унифицируется в двух отношениях: представленные принципы прорастают, во-первых, в разных речевых ситуациях (деловые переговоры, клиентский сервис, общение с детьми и т.д.), во-вторых, в разных культурных контекстах. Д. Камерон, однако, подчеркивает иллюзорность их универсальности: такое представление о моральной ценности коммуникации и эффективных стратегиях общения сложилось как дискурсивная норма в США и получает всемирное распространение в контексте общей глобализации английского языка4. Таким образом, рассматривая коммуникативный принцип как ключевую характеристику будущего глобального гражданского общества, теоретики, так же как и доноры, маскируют допущение: подача дискурсивных норм англоязычного сообщества как универсальных видится необходимой иллюзией, которая превращает идею глобального гражданского общества в идеологию.
Становление идеологии глобального гражданского общества идет одновременно по нескольким сценариям: на роль «социально необходимой иллюзии» его спонсоры выдвигают идею «третьего сектора», его теоретики – коммуникативный принцип согласования глобальных норм. В перспективе предстоит оценить, какая из конкурирующих интерпретаций будет доминировать и насколько она окажется функционал ьной в качестве идеологии.