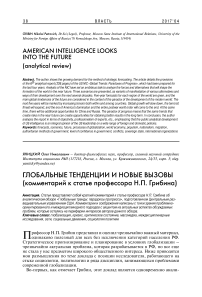Глобальные тенденции и новые вызовы (комментарий к статье профессора Н.П. Грибина)
Бесплатный доступ
Статья представляет собой краткий комментарий к статье профессора Н.П. Грибина об аналитическом обзоре «Глобальные тренды: парадоксы прогресса», подготовленном Центральным разведывательным управлением США. Комментарии и соображения написаны с точки зрения проблемно-ориентированного и междисциплинарного подходов с акцентом на актуальных аспектах обсуждаемых проблем, которые остались на периферии интересов авторов данного обзора.
Глобализация, кризис, критическое состояние, массмедиа, междисциплинарные исследования, сети, социальные движения, социология политики
Короткий адрес: https://sciup.org/170168766
IDR: 170168766
Текст научной статьи Глобальные тенденции и новые вызовы (комментарий к статье профессора Н.П. Грибина)
П рофессор Н.П. Грибин представил и оценил чрезвычайно важный материал, одинаково полезный для всех без исключения категорий населения РФ.
Стратегическое прогнозирование и планирование в условиях глобализации – чрезвычайно актуальная проблема, которая разрабатывается в РФ, но все еще не стала у нас предметом широкого общественного интереса. Ниже приводятся мои размышления по теме доклада с позиции исследователя, работающего на стыке социологии, политологии и ряда дисциплин, занимающихся проблемами современной глобализации.
Во-первых, как отмечает Грибин, этот доклад является одновременно анали- тическим и пропагандистским, и содержание его можно выразить простой формулой: мы знаем все обо всех и лучше всех. И действительно, судя по доступным отечественным источникам, масштаб настоящего доклада Национального разведывательного совета США производит впечатление (далее – Доклад). Производит потому, что российские медиа чрезвычайно мало пропагандируют отечественные прогнозы по этой теме, а достижения социальной прогностики советских времен вообще забыты.
Во-вторых, в понимании сути современной глобализации как всеохватывающего и всепроникающего процесса взаимодействия разнонаправленных сил Доклад, на мой взгляд, не вносит ничего принципиально нового, во всяком случае по сравнению с зарубежными и отечественными работами по геополитике и социологии политики последних двух десятилетий. В Докладе детально не анализируется воздействие на этот процесс третьей и четвертой научно-технических революций и, прежде всего, их сетевой характер, создающий феномен «инверсии пространства», стирающий различия между «там» и «здесь», и т.д. Однако уже очевидно, что всеобщая «прозрачность» мира, созданная современными техническими средствами, имеет свою оборотную сторону: она резко подняла градус недоверия между властными структурами. Другой важный вопрос: как соотносятся унифицирующие транснациональные тренды глобализации и стремление государств и местных сообществ сохранить свое национальное и культурное разнообразие? «Колониальный» метод сохранения образцов национальных культур в музеях и хранилищах индустриально развитых стран сегодня уже неприемлем.
В-третьих, в Докладе много внимания уделено динамике народонаселения планеты и «поведению» государств и отдельных регионов. Однако не анализируются социальные факторы глобализации: имущественное и социальное неравенство, недоверие, проблема гражданских прав и свобод, процессы утери национальнокультурной идентичности, роль имманентных и социально-сконструированных социальных движений. Причем выявить эти факторы по отдельности недостаточно – нужно понимание их взаимовлияния и совместной динамики. Причины и цели антиглобалистского и других социальных движений, акций массовых протестов также практически не анализируются или квалифицируются как популистские. Но США и ЕС все более становятся страной мигрантов, у которых, особенно во втором поколении, чувство национальной принадлежности обостряется. Недавние протесты турецких диаспор в Австрии, Германии и Нидерландах против властей, запретивших въезд в эти страны высших должностных лиц Турции, тут же отозвались резким обострением отношений между Турцией и ЕС.
Далее, при чтении Доклада порой создается впечатление, что борьба разных социальных и политических сил идет в «пустом пространстве». Между тем сама среда обитания всегда есть совокупность социальных, природных и техногенных агентов и сил. К таким социальным силам относятся также голод, эпидемии, потоки беженцев и вынужденных переселенцев, природные и техногенные катастрофы. Оборотной стороной «средового» фактора риска является несущая способность среды обитания, то есть ее способность противостоять внешним рискам и угрозам. Если эта способность превышена, то среда из инструмента, поглощающего риски, сама превращается в их источник. И еще: мы как-то подзабыли тезис о роли личности в истории. Не парадокс ли: на фоне всеобщей информатизации и массовых процессов вдруг оказалось, что и в эту новую эпоху роль личности в истории достаточно высока.
В-четвертых, сегодня «драйверами» глобализации являются не только государства, но также их перманентно изменяющие свою конфигурацию альянсы и союзы с их сложной системой информационных, ресурсных и человеческих сетей и потоков. Но есть еще одна сила, которую пока серьезно никто не изучал, но которая может как ускорять, так и тормозить динамику глобализации. Речь идет о превращении нашей планеты в суперсложную социобиотехническую систему, которая также имеет свои закономерности развития, но которые пока системно не изучались [Яницкий 2016]. Доклад также мягко обходит проблему главной движущей силы глобализации: борьбы за ресурсы, власть и влияние. Человеческий капитал упоминается, но его значение как фактора глобализации не анализируется. А критические ситуации, связанные с движением финансового капитала, даже не упоминаются.
В-пятых, в Докладе анализируются разные кризисы: финансовый, гуманитарный и даже «экзистенциальный», однако анализа системного кризиса глобальной капиталистической машины в нем практически нет. Между тем именно «гибридный» характер современных кризисов в сочетании с постоянной угрозой ядерной войны представляет первостепенный интерес. Нет и анализа принципиальных различий между кризисами и критическими ситуациями. Критическими я называю ситуации, когда состояние элементов инфраструктуры, отдельные регионы или общество в целом устойчиво деградируют. Процесс глобализации всегда имеет две стороны: созидательную и разрушительную, сопровождающуюся выделением гигантских масс энергии распада – начиная от аварий и катастроф и до массовых миграционных потоков. Сжатие социального мира посредством информационно-коммуникационных технологий действительно превращает его в «большую деревню» [Toffler 1970], но это только усиливает борьбу за власть, ресурсы и жизненное пространство.
В-шестых, в Докладе указывается на растущее военно-политическое значение частных армий и гражданских организаций. Однако не анализируется факт искусственного конструирования этих социальных агентов, которые могут периодически изменять свою политическую окраску и направленность действий. В Докладе они именуются неправительственными формированиями, которые способны причинить большие разрушения, что связано с расширением доступа этих формирований (террористы, «мятежники», активисты и криминальные банды) к разрушительным и смертоносным технологиям, что может стать серьезным вызовом государственной власти. А международным организациям или мировому порядку в целом? И потом, далеко не все гражданские организации столь воинственно ориентированы.
В-седьмых, в Докладе нет анализа современных сетевых форм власти и влияния, таких как «мягкая сила» и «инсценирование» (виртуальное изображение) внешних угроз, дающих основание США и НАТО приближать свои военные базы к границам РФ или же усиливать иные формы своего военного присутствия на этих границах, требовать от зависимых от США и НАТО стран увеличить их военные бюджеты. Здесь мы подходим к острой политической проблеме: к перманентному конструированию мнимых опасностей или угроз, многократно усиленных мощью современных медиа, включая социальные сети. Фактически сегодня население планеты живет в сконструированном ими мире, что порождает глобальный риск разрыва между «медиакартинкой», «инсценировкой» некоторого события и реальными действиями социальных и политических агентов. Как давно было показано [Arsenault, Castells 2008], глобальные медиамагнаты легко манипулируют массовым сознанием при помощи всего двух информационных инструментов: «переключения» и «перепрограммирования». Сколько уже раз президент РФ В.В. Путин повторял, что мы никому не угрожаем, а лишь, как и другие страны, отстаиваем свои интересы. Но и это не все. Сеть, как и всякий инструмент коммуникации, – обоюдоострая штука.
Есть, например, теневые сетевые сообщества, понуждающие подростков к самоубийству под видом игры.
В-восьмых, в Докладе многократно используется оборот «в то же время», который указывает на двусторонний характер тех или иных событий. Однако в условиях информационной революции и современных средств перемещения воинских контингентов, военной техники и т.п. сам фактор времени имеет решающее значение. Эта проблема заслуживает особого изучения, не сводимого к проблемам перемещения воинских контингентов или «подлетного времени». Растущее отставание «ответа» социальных институтов на быстротекущие вызовы – вот одна из ключевых проблем глобального мира.
В-девятых, то, что в Докладе называется «популизмом», есть лишь попытка уйти от серьезного разговора. Суть проблемы в том, что растущая в мире масса голодных, безработных и бесправных людей, уже владеющих современными средствами коммуникации, может быстро объединяться для защиты собственных интересов. По данным ООН, этаких людей сегодня больше всего в Африке. Но они есть везде, в т.ч. и в странах богатого Севера. Популизмом в данном случае является очередной призыв международных организаций организовать помощь этим людям. Им нужны не лагеря для беженцев и очередной гуманитарный конвой, а крыша над головой, работа и возможность самостоятельно решать свою судьбу. Миграционный кризис в Европе есть лишь один из результатов политического популизма в рамках целого континента. Не только авторы Доклада, но и многие современные западные политики не учитывают диалектики «массы», т.е. толпы, и «массового движения» как инструмента достижения социальных и политических целей. Если баланс между глобализацией и интересами больших групп населения (как, например, сегодня – это средний класс в США) нарушается, то возникает не «популизм», а социальный протест и требования, на которые политики должны отвечать.
В-десятых, проблема «управления» глобальными процессами требует особого внимания. Я уже многократно отмечал, что в английском и американском английском языках есть множество значений этого термина: coping with, government, management, ruling, taming и т.д. О каком именно способе управления идет речь в Докладе, не ясно. Но главная проблема заключается в том, что существующие и политические, и социальные институты не в состоянии угнаться за темпом происходящих в мире перемен. Соответственно, не годятся и многие приемы получения релевантной информации для принятия решений. Частично эта проблема решается при помощи современных средств наблюдения (со спутников, дронов, посредством хакерских атак и др.). Сегодня в список форм «гибридной войны» входят как «мягкие», так и жесткие формы ее ведения, такие как, например, «капиллярная война»1. Поэтому, говоря теоретически, многостороннему и мобильному характеру современной глобализации должен соответствовать и столь же всеохватывающий характер мониторинга глобальных процессов, что еще более ускорит разработку новых инструментов для сбора и обработки информации.
В-одиннадцатых, пока этого инструментария еще нет, а существующая система принятия стратегических решений в странах англосаксонского блока достаточно консервативна, его с переменным успехом заменяют разные способы «челночной дипломатии». И эту систему трудно быстро чем-то заменить, поскольку в подобных переговорах участвуют все большее число заинтересованных лиц, а их состав, полномочия и интересы все время меняются. По моим приблизительным расчетам, суммарный объем финансовых средств, затраченных на минские соглашения или на частичное перемирие в Сирии, мог бы с лихвой покрыть расходы на восстановление нескольких сирийских городов, разрушенных в ходе многолетней войны.
В-двенадцатых, и социологию политики, и, думаю, политологию как таковую ожидает серьезный пересмотр многих концепций и понятийного аппарата. Мир уже стал иным, и традиционный научный инструментарий в этих (и многих других) областях обществознания «поплыл», все менее отражая суть и темпо-ритмы происходящих перемен. Вот только один пример. Политические и социальные последствия глобального потепления при всем желании нельзя изучать методами массовых опросов. Глобальное потепление – это новый характер глобального социально-экологического метаболизма [Yanitsky 2016], для анализа которого нужен сложный междисциплинарный инструментарий. К его изучению обществоведы только приступают, но без тесного взаимодействия с естественными и точными науками здесь не обойтись. Если уже такая международная «гора», как ЮНЕСКО, сдвинулась с места, приступив к объединению своих ключевых общественных советов по социальным и естественным наукам, значит, междисциплинарный подход встал на международную повестку дня.
Выводы. Стратегическое прогнозирование и планирование в условиях глобализации – чрезвычайно актуальное направление комплексного междисциплинарного анализа, интерес к которому должен прививаться населению всех стран, включая и РФ, но прежде всего – их молодому поколению. Доклад, написанный с позиций и в интересах США, тем не менее, должен отвечать на вопрос: как разрешать или, по крайней мере, смягчать эти «парадоксы прогресса», находить компромиссы и пути достижения хотя бы временного согласия? И какова социальная роль в этом спецслужб? Установка на подрывную работу, как полагал А. Даллес в 1950-х гг., сегодня уже не работает, даже в отношении тех, кого эти спецслужбы считают потенциальными противниками или конкурентами. Однако перенос центра внимания политиков и спецслужб на инструменты манипулирования сознанием и поведением масс заслуживает всяческого внимания. Поэтому глобальное политическое сообщество, включая российские массмедиа, должно найти баланс между сенсациями и «горячими новостями» и систематическим внятным обсуждением новых трендов и обучением самых разных слоев населения азам стратегического планирования. Мнение, что наша страна «живет одним днем», не только ошибочно, но и политически опасно, т.к. подобные теги и мемы легко усваиваются массовым сознанием. И последнее. Н.П. Грибин обращает внимание на более мягкий тон всего Доклада, который его авторы называют «версией». Почему бы не признать факт, многократно подтвержденный западной социологией, что глобализация – это вероятностный нелинейный процесс, изобилующий неожиданными трендами и непредвиденными поворотами?
Список литературы Глобальные тенденции и новые вызовы (комментарий к статье профессора Н.П. Грибина)
- Яницкий О.Н. 2016. Социобиотехнические системы: новый взгляд на взаимодействие человека и природы. -Социологическая наука и социальная практика. № 3. С. 5-22
- Arsenault A., Castells M. 2008. Switching Power: Rupert Murdoch and the Global Business of Media Politics. -International Sociology. Vol. 23. No. 4. P. 488-513
- Toffler A. 1970. Future Shock. N.Y.: Bantam Books
- Yanitsky O. 2016. Metabolism as a Master Frame for Globalization Analysis. Доступ: http://www.isras.ru/files/File/publ/Yanitsky_Metabolism_as_a_frame_for_global_analysis_2017.pdf