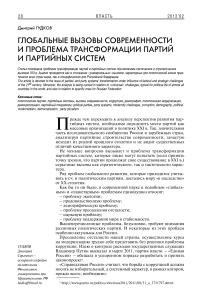Глобальные вызовы современности и проблема трансформации партий и партийных систем
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме трансформации партий и партийных систем под влиянием тактических и стратегических вызовов XXI в. Анализ проводится как в отношении «универсальных» вызовов, характерных для политической жизни практически всех стран мира, так и специфических для Российской Федерации.
Политические партии, партийные системы, вызовы современности, коррупция, демография, политическая модернизация, демократизация, партийный плюрализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170166247
IDR: 170166247
Текст научной статьи Глобальные вызовы современности и проблема трансформации партий и партийных систем
П режде чем переходить к анализу перспектив развития партийных систем, необходимо определить место партий как массовых организаций в политике XXI в. Так, значительная часть исследовательского сообщества России и зарубежных стран, анализируя партийное строительство современности, зачастую исходит из реалий прошлого столетия и не видит существенных отличий качественного характера.
Не меньше вопросов вызывает и проблема трансформации партийных систем, которые также могут испытать (если принять точку зрения, что партии продолжат свое существование в XXI в.) серьезные вызовы как стратегического, так и тактического характера.
Ряд проблем глобального развития, которые приходится учитывать в т.ч. и политическим партиям, достались миру «в наследство» от ХХ столетия.
Как бы то ни было, в современной науке к подобным «глобальным» и «планетарным» проблемам единодушно относят:
– проблему экологии;
– продовольственную проблему;
– демографическую проблему;
– проблему преодоления отсталости;
– сырьевую проблему;
– проблему поддержания мира и стабильности.
Вышеперечисленные проблемы, безусловно, требуют внимания различных политических партий. И некоторые из этих проблем особенно актуальны для России.
Преодоление отсталости нашей страны, осуществление курса на модернизацию трудно себе представить без решения проблемы коррупции. Идею о контроле расходов государственных служащих Владимир Путин высказал в марте 2011, партия власти – «Единая Россия» – обещала в ускоренном порядке разработать и принять законопроект1.
«Справедливая Россия» считает, что борьба с коррупцией должна носить не избирательный, а системный характер, в рамках которой, прежде всего, необходимо:
-
1) предоставлять сведения о доходах госслужащих, распространив это требование на доходы и имущество членов их семей; обеспечить периодическую проверку соответствия приобретенного состояния законным источникам дохода;
-
2) ужесточить наказания за взяточничество и злоупотребление служебным положением с обязательной конфискацией имущества осужденного, а также имущества членов его семьи1.
Глава Общественного совета при президиуме генсовета «Единой России» Алексей Чеснаков также полагает, что проблема борьбы с коррупцией занимает важное место в новой предвыборной программе партии. Требования к декларации расходов госслужащих и членов их семей найдут место, по словам Чеснакова, в итоговом документе, хотя конкретная форма пока еще не прописана2. Таким образом, реальный эффективный механизм по борьбе с коррупцией на данный момент не существует. Существующая подотчетность государственных служащих, согласно принятому в 2008 г. закону «О противодействии коррупции», носит в большей степени условный характер. В соответствии с законом чиновник обязан отчитываться только за себя, супругу и за несовершеннолетних детей3. Совершеннолетние дети, братья, сестры, други е родственники не подпадают под действие данного закона, делая его лишь формальностью, которую нетрудно обойти. Кроме того, в законе не прописана система проверки задекларированных данных, а также мера ответственности чиновника за представление ложной информации о своих доходах.
Здравые предложения оппозиционных партий об ужесточении уголовной ответственности с возможной конфискацией имущества, а также о введении уголовной ответственности за ложные сведения о доходах партия власти игнорирует, поэтому Государственной Думой так и не принята норма о конфискации «коррупционного» имущества. Таким образом, на данный момент, несмотря на предстоящие выборы и активизацию политической жизни, о подвижках в системной и институциональной борьбе с коррупцией говорить едва ли приходится. А без решения проблемы снижения уровня коррупции вопрос преодоления отсталости страны и ее модернизации остается открытым и едва ли осуществим в среднесрочной перспективе.
Сырьевую проблему в России следует рассматривать в ином по сравнению с большинством стран мира ракурсе. Наша страна сильно зависит от экспорта нефти и газа, от мировых цен на природные ресурсы. К сожалению, за последние 10 лет доля нефтегазовых доходов в бюджете России непрерывно росла.
Что же касается собственно вызовов XXI столетия, то они связаны, с одной стороны, с деидеологизацией политической жизни и социальным запросом на «современную альтернативу», будь то в политике, экономике или духовной жизни, с другой – с изменением «параметров» социума, в котором протекают в том числе партийные процессы4.
Вызовы современности, которые существенным, а зачастую кардинальным образом влияют на политическое развитие государств XXI в., можно разделить на тактические и стратегические. Тактические обусловлены «оперативной» политической конъюнктурой и могут быть легко преодолены или абсорбированы политической системой. По крайней мере, они не несут для нее принципиальных рисков, под них политическая система вполне может подстроиться и адаптироваться к ним. Что же касается стратегических вызовов, то они во многом связаны с фундаментальными процессами изменения политического пространства и времени, механизмов коммуникации между обществом и властью, с социально-политическими трансформациями. Партийные системы также в полной мере испытывают на себе влияние вызовов современности, как тактических, так и стратегических. Причем в каждой из стран выстраивается своя иерархия подобных вызовов, рисков и проблем. Проанализируем отечественную специфику. К стратегическим вызовам для России можно отнести следующие.
Во-первых, это вызов морального износа власти1. В данном случае проблема заключается в том, что, с одной стороны, в РФ как переходном обществе высоки риски дестабилизации, связанные с продолжающимися политическими и экономическими изменениями, с другой – страна испытывает влияние тенденции «ускорения» политических процессов, характерной для эпохи рубежа ХХ–XXI вв. Поэтому одним из самых опасных моментов является постепенное разочарование граждан в деятельности правящих элитных групп, в т.ч. партийных элит. Подобные настроения зачастую обусловлены не столько реально катастрофическим положением дел в стране, сколько социальным запросом «на новизну». С точки зрения изменения партийной системы данный вызов таит в себе опасность кардинального пересмотра сложившейся модели с доминантной партией. Причем отторжение уже в скором времени может вызвать не только «направляющая и руководящая роль» партии «Единая Россия», но и надоевшие избирателю традиционные спарринг-партнеры «партии власти» – ЛДПР, КПРФ, «Яблоко». С учетом вышеуказанных факторов вполне реальным представляется кардинальное переформатирование партийной системы РФ уже в краткосрочной перспективе, связанное как с утратой абсолютного лидерства нынешней «партией власти», так и с появлением новых влиятельных партийных акторов.
Тесно связаны с первым стратегическим вызовом два последующих – вызов плюрализма и вызов радикализации. Вызов плюрализма заключается в том, что современное российское общество, по крайней мере де-юре, встроено в рамки демократического политического режима2. Это предопределяет популярность идеи политического «разнообразия» и плюрализма, в т.ч. в партийной сфере. На определенном этапе развития постсоветской российской государственности граждане признавали за властью право на мобилизационный путь развития, на ограничение деятельности оппозиции, на консолидацию административного ресурса. Однако в 2010–2011 гг.
стал ощущаться запрос на плюрализм, на диверсификацию политики, на реальную партийную конкуренцию3. И хотя пока власть в целом контролирует политическую сферу и не стремится к изменению ее основ, тем не менее определенное напряжение в рамках гражданского общества нарастает. С этим обстоятельством связан еще один существенный вызов – вызов политической радикализации. Российская политическая культура дихотомична: с одной стороны, граждане являются патерналистски и этатистски ориентированными, с другой стороны, такая «прогосударственная» позиция россиян существует до тех пор, пока власть сильна, эффективна и ставит перед населением четкие задачи. В то же время, когда власть слабеет, раздваивается сама в себе, не формулирует ясную и позитивную перспективу (в т.ч. политическую), происходит массовое разочарование в ней, что чревато революционными и бунтарскими сценариями. Такое развитие событий ставит под вопрос существование как современной политической системы в целом, так и партийной системы в частности. Показательно, что в свое время именно разочарование граждан в «невнятной» и «морально устаревшей» власти привело к революциям 1917 и 1991 гг. В последнем случае, кстати, под влиянием данных вызовов была разрушена монопартийная система, а КПСС потеряла сначала статус «руководящей и направляющей силы советского общества», а затем и вовсе прекратила свое существование.
Серьезным испытанием для партийной системы РФ может стать вызов «национального вопроса»4. Дело в том, что, несмотря на многонациональный и федеративный характер современной российской государственности, ощущается серьезное «перенапряжение» в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. Более того, ситуация усугубляется еще и отсутствием базового общественного консенсуса по поводу основополагающих ценностей и приоритетов страны. Кроме того, являясь лидером постсоветского пространства, Россия стала центром притяжения миграцион- ных потоков, которые зачастую порождают противостояние между «аборигенами» и «пришлыми». Такие реалии дают возможность маргинальным политическим силам эффективно играть на указанных противоречиях и мобилизовать сторонников политики разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. Подобные процессы в многонациональной РФ, в отличие от других постсоветских стран, чреваты исключительно серьезными издержками, вплоть до крушения ее государственности и распада.
Возможность преодоления указанных выше вызовов напрямую зависит от решения еще одной важной проблемы – поиска идеологических приоритетов, адекватных для России XXI столетия, которые бы учитывали как глобальные изменения, так и трансформацию отечественной политической и социально-экономической жизни. Рубеж ХХ–XXI вв. ознаменовался серьезным кризисом традиционных идеологий и мировоззренческих конструкций, определявших жизнь человечества на протяжении последних 200 лет. В контексте новых вызовов большинство из них оказались недостаточно адекватными. Последней «пала» либеральная политическая и социально-экономическая догматика, позиции которой оказались подорванными, с одной стороны, излишне настойчивыми попытками США и Евросоюза распространить ее повсеместно в качестве «единственно верного» учения, с другой – глобальным финансово-экономическим кризисом, который заставил человечество усомниться в универсальности и эффективности либерально-рыночной модели. Следствием этого стали попытки найти ответы на вызовы нового столетия в про-шлом1. Так, в политической сфере возрос интерес к идеологиям XIX–ХХ вв. (либерализм, консерватизм, социал-демократизм, коммунизм), а также к квазиполитическим теориям (политический феминизм, религиозно-политические учения, глобализм, антиглобализм, постиндустриализм, экологизм), а в экономике возник запрос на новую версию кейнсианства. Однако любой из подобных «ренессансов» если и состоится, то будет весьма недолговечным, поскольку все указанные идеологии своими корнями находятся в XIX–XX вв. Как и большинство государств мира, Россия нуждается в выработке принципиально новых идеологических приоритетов, адекватных вызовам современной эпохи. Определенные шаги на данном направлении предпринимались в 2008–2011 гг., когда в качестве такой идеологической «надстройки» процесса обновления страны властью был предложен концепт «инновационного развития». Однако, несмотря на широкое распространение данного понятия в риторике высших должностных лиц государства и других представителей элиты, конкретной «расшифровки», особенно с политической точки зрения, он не получил.