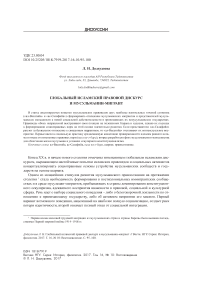Глобальный исламский правовой дискурс и мусульманин-мигрант
Автор: Додхудоева Лола Назаровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 10 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются попытки мусульманских правоведов двух наиболее влиятельных течений суннизма («ал-Васатийа» и «ас-Салафийа») сформировать отношение мусульманских мигрантов и представителей мусульманских меньшинств к новой социальной действительности в принимающих их немусульманских государствах. Правоведы обоих направлений выстраивают свои позиции на положениях Корана и хадисов, однако их подходы к формированию социоправовых норм на этой основе значительно разнятся. Если представители «ас-Салафийи» ратуют за буквальное отношение к священным нарративам, то «ал-Васатийа» отстаивают их контекстуальное восприятие. Первые ввели в социальную практику средневековую концепцию приверженности идеалам раннего ислама и отказа от измененных правовых норм (вала ва-л-бара), вторые разработали фикх мусульманского меньшинства для облегчения жизни мусульман в условиях секулярного конституционализма.
Ал-васатийа, ас-салафийа, вала ва-л-бара, шариат, правосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/147219723
IDR: 147219723 | УДК: 23.00.04 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-10-95-100
Текст научной статьи Глобальный исламский правовой дискурс и мусульманин-мигрант
Конец ХХ в. и начало нового столетия отмечены интенсивным глобальным исламским дискурсом, выражающим настойчивые попытки исламских правоведов и социальных активистов концептуализировать социоправовые основы устройства мусульманских сообществ и государств на основе шариата.
Одним из мощнейших стимулов развития мусульманского правосознания на протяжении столетия 1 стала необходимость формирования в постколониальных иммигрантских сообществах и в среде мусульман-мигрантов, прибывающих в страны доминирования конституционного секуляризма, адекватного восприятия инаковости в правовой, социальной и культурной сферах. Речь идет о выборе социального поведения – либо о безоговорочной лояльности по отношению к принимающему государству, либо об активном неприятии его законов. Первый вариант возможного поведения, нацеленный на наиболее полную социализацию, создает риск потери идентичности, второй означает полный отказ от социальной интеграции.
В данной статье освещаются позиции мусульманских правоведов двух наиболее влиятельных и жестко конкурирующих между собой в социоправовой сфере теолого-юридических течений суннизма – «ас-Салафийа» и «ал-Васатийа» по проблеме этого выбора 2.
В первом случае имеется в виду идеологически важное течение салафизма нерадикального направления, известное в салафитской среде как «ас-Салафийа ал-илмийа» («Научная/теоре-тическая салафийа»), а среди экспертов – как «центристы» или «пуристы» [Lauzière, 2016. Р. 8–9]. В основе его теоретических и практических позиций лежат труды ханбалитских правоведов Ибн Таймийи (1263–1328) и Ибн Кийамма (1292–1350).
Название второго направления «ал-Васатийа» (от араб. васат , букв. «срединный», «умеренный», «сбалансированный») восходит к кораническому концепту умма васата [К: 2, 143]. Это люди, обладавшие умением воздерживаться от крайностей, способностью беспристрастно, насколько возможно в религиозной апологетике, оценивать противоположные мнения и позиции, основываясь на заповедях раннего ислама [Gräf, 2009. P. 213–214].
Поиск центристской позиции в исламе занимал умы исламских модернистов уже в начале прошлого века, однако впервые основы «ал-Васатийа» как социально-правового концепта были изложены в 1960-х гг. правоведом Юсуфом ал-Карадави (р. в 1926). Он ратовал за реформирование ислама, считая его «прагматичной, способной к адаптации и толерантности религией» [Shavit, 2014. P. 79].
Мусульманин-мигрант оказался в центре программ и «ас-Салафийа», и «ал-Васатийа» на исходе XX в. К этому времени завершился пересмотр средневековых принципов зонирования мира («Дар ул-ислам», «Дар ул-харб» и др.) [Додхудоева, 2016]. Основываясь на утверждении Корана о неразделенности всего мира как единого божественного творения [К: 2, 29], исламские интеллектуалы признали, что немусульманские страны потеряли божественное покровительство, превратившись в созданные человеком административные образования, и выдвинули лозунг возвращения им божественной благодати через обращение в ислам. Так, Запад 3 получил название «Дар ул-дава» («Зона призыва [к исламу]») [Al-Alwani, 2013. P. 32, 49–50], а выполнение задачи его исламизации было возложено на мусульман-мигрантов 4.
Принципиальная разница в воззрениях «ал-Васатийа» и «ас-Салафийа» кроется в сфере методологии и целей. Методы «ал-Васатийа» основаны на рациональном аргументировании ( иджтихад ), прагматичном восприятии действительности, допущении плюрализма мнений [Gräf, 2009. P. 6–8), а цели поддержаны идеями общественного блага, баланса и умеренности [Сюкияйнен, 2006]. «Ал-Васатийа» допускают приезд мусульманина на Запад с целью учебы, ведения бизнеса и пр. 5 Новые знания и навыки, на их взгляд, способствуют его большей социализации и процветанию уммы, а прозелитская деятельность мигранта (иммигранта) может быть всего лишь добровольно взятой на себя обязанностью.
Салафиты же считают, что мусульманин может появиться на Западе только с одной (прозелитской) целью 6. Участие в различных программах разрешено лишь в случаях, когда оно облегчает пропаганду ислама в фокусной группе.
Однако в рассуждениях правоведов этих двух направлений в отношении мусульманина-мигранта есть и общая позиция. И представители «ал-Васатийа», и позиционирующие себя как нерадикально настроенные представители «ас- Салафийа», связанные с исламскими центрами Саудовской Аравии, не поддерживающими салафизм-джихадизм и такфиризм, настаивают на том, что получение мусульманином вида на жительство, гражданства или даже визы для въезда в страну придают ему статус одной из сторон контракта, заключенного с принимающим государством. Соответственно, любые его противоправные действия в отношении второй стороны согласно соционормативной практике ислама фактически аннулируют его [контракта] действие [March, 2007. Р. 243–244].
Однако статистика показывает, что реальность далека от столь благостных убеждений. Согласно отчету департамента полиции Нью-Йорка 2007 г., основанному на анализе биографий террористов, совершивших десять атак в Северной Америке, Европе и Австралии, гораздо бόльшая готовность примкнуть к салафитам-джихадистам выявлена в среде мусульман, посещавших именно салафитские мечети, в которых велась антитеррористическая проповедь. Согласно другому аналитическому исследованию, почти 37 % из 110 известных джихадистов Германии посещали шесть салафитских мечетей (всего в стране 3 600 мечетей разных направлений) [Shavit, Andresen, 2016].
Отношение двух исследуемых групп к проблеме адаптации мусульманина к условиям конституционного секуляризма выявляет значительные различия.
Представители «ал-Васатийи» исходят из понимания высших/универсальных целей шариа-та/Корана [Al-Alwani, 2014], направленных на облегчение участи человека на Земле. Понимая неприменимость норм шариата для мусульман в условиях секуляризма, представители «ал-Ва-сатийа» в 1990-х гг. разработали отдельный раздел фикха – «Фикх ал-акаллийат ал-муслима» («Фикх/правовые нормы мусульманского меньшинства») 7, получивший распространение среди мусульман в странах Западной Европы и Северной Америки с 2004 г. Ал-Карадави и его ближайший соратник ал-Алвани (1935–2016) использовали метод иджтихад , правовую экспертизу, создав «банки» фетв на интернет-сайтах с целью помочь транснациональной умме решать повседневные проблемы [Shavit, 2012. P. 457].
Первые попытки внедрения в социальную практику положений «Фикх ал-акаллийат» вызвали суровую критику салафитов, исповедующих буквальное понимание сакральных текстов и не допускающих их рациональной трактовки.8 Салафиты пропагандируют иное отношение к этим проблемам, трактуя необходимость противостоять трудностям в среде неверных как возможность проведения джихада. Их правоведы ответили на «Фикх ал-акаллийат» реанимацией средневекового концепта вала ва-л-бара [букв. «верность и отказ/неприятие»]. Согласно ему, следует стойко защищать свои убеждения, проявляя непоколебимую верность Аллаху и заповедям эпохи становления ислама, и непреклонно отвергать те социоправовые правила и установки, которые могут закрепиться в социально-политической практике в силу конкретных неблагоприятных для уммы обстоятельств [Wagemakers, 2009. P. 81–106].
За последние 20 лет эта доктрина стала центральной в представлениях салафитов: сформировались основные принципы выстраивания отношений с иноверцами, а именно – активное неприятие чуждых правил жизни и законов секулярима и защита собственной идентичности. Социоправовые нормы поведения миссионера-мигранта, предлагаемые салафитами, представляют собой некий набор «оборонительных», антиинтеграционных правил, «защищающих» мусульманина от действия секулярных законов, в связи с чем запрещено выстраивать дружеские межличностные отношения с иноверцами (кроме тех, кто входит в фокусную группу и только в период пропаганды), имитировать их манеры, одежду и пр.
Представители «ал-Васатийа» считают такие правовые положения «фикхом кризиса», проявлением «баррикадного сознания» эпохи отстаивания религиозной идентичности [Al-Alwani, 2013. P. 32, 49–50], усматривая в них и влияние доктрины Ибн Таймийи о враге «ближнем» (мусульмане-вероотступники) и «дальнем» (иудеи, христиане и другие неверные) 9. «Ал-Васа-тийа» противопоставляет «фикху кризиса» «фикх сосуществования» людей различной религиозной принадлежности, а такую территорию предлагают определять как «Дар ал-иджаба» («Зона согласия») [al-Alwani, 2013. Р. 29]. Впервые за длительную историю ислама лидеры
«ал-Васатийа» на основе контекстуального подхода к сакральным источникам предложили «перевести внимание от политического ислама к исламу публичному, …от дискурса, сфокусированного на вопросах легитимности власти правителей, к практическим соображениям об общественном благополучии и социальной справедливости» [Salvatore, 2009. P. 245]. Принципы «ал-Васатийа» закрепились в ряде образовательных и управленческих программ мусульманских стран (Кувейт, Малайзия). Главным направлением деятельности сформированной на этих позициях в Египте партии «Хизб ал-васат» стала борьба за равенство прав религиозных меньшинств (немусульман в мусульманских государствах и мусульман на Западе) [Warren, Gilmore, 2014. P. 221].
Столкновение, пересечение и безусловное взаимовлияние доктринальных позиций, интеллектуальных интересов и стратегий сторонников «ал-Салафийа» и «ал-Васатийа» в сфере проблем мусульманина-мигранта – отражение значительно более широкого среза борьбы за самое будущее уммы.
Массовые миграционные процессы – ярчайшая примета современной эпохи и острейший вызов для многих государств секулярного конституционализма, включая и Россию. Взаимодействие секуляризма и ислама на ее территории имеет свои особенности, достойные глубокого изучения. Советский строй принес особую форму секуляризма, особым остается и путь возрастания роли религии в общественной жизни, на который вступила Россия в 1990-х гг., в том числе и в связи с массовой трудовой миграцией из стран традиционного доминирования ислама. Попытки выстраивания разноуровневого взаимодействия различных правовых культур сопряжены с определенными рисками и проблемами. При этом представляется, что способствовать их разрешению может развитие теоретического религиоведения и его практического воплощения.
Список литературы Глобальный исламский правовой дискурс и мусульманин-мигрант
- Додхудоева Л. Н. К эволюции социально-политического вокабуляра ислама второй половины XIX - начала XXI в.: концепт «Дар ал-ислам» // Власть. 2016. № 7. С. 199-205.
- Сюкияйнен Л. Р. Умеренность как стратегия современного ислама // Независимая газета. 01.03.2006.
- Alshech E. The Doctrinal Crisis within the Salafi-Jihadi Ranks and the Emergence of Neo-Takfirism. A Historical and Doctrinal Analysis // Islamic law and Society. 2014. Vol. 21. P. 419-452.
- Al-Alwani T. J. Towards a Fiqh for Minorities.Some Basic Reflections. London, 2013. 68 p.
- Al-Alwani Z. Maqasid Quraniya: A Methodology on Evaluating Modern Challenges and Fiqh al-Aqalliyat // Muslim World. 2014. Vol. 104. № 4. P. 465-487.
- Gräf B. The Concept of Wasat˙iyya in the Work of Yusuf al-Qaraḍāwī // The Global Mufti: the Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi. London, 2009. P. 213-238.
- Laoust H. Contribution à une étude de la méthodologie canonique de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya: Traduction annotée 1 du Maarig al-wusul ila marifat anna usul ad-din wa furuahu kad bayyanaha arrasul et 2 d'Al-Kiyas fi-s-sar al-islami. Caire, 1939. 214 p. (на фр. яз.)
- Lauzière H. The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth century. New York, 2016. 328 p.
- March A.F. Islamic Foundations for a Social Contract in non-Muslim Liberal Democraties // American Social Science Review. May 2007. Vol. 101. № 2. Р. 235-252.
- Ryad U. Islamic Reformism and Christianity: A Critical Reading of the Works of Muhammad Rashid Rida and His Associates (1898-1935)]. London; Boston, 2009. 390p.
- Salvatore A. Qaradawi's Maslaha: From Ideologue of the Islamic Awaking to Sponsor og Transnational Public Islam // The Global Mufti: the phenomenon of Yusuf al-Qaradawi… London, 2009. P. 239-250.
- Schmidinger T. Islam, Migration, and the Muslim Communities in Europe: History, Legal Framework, and Organizations // Looming Shadows: Migration and Integration at a time of Upheaval. European and American perspectives. Washington, 2012. P. 99-122.
- Shavit U. Can Muslims befriend Non-Muslims? Debating al-wala' wa-al-bara' (Loyalty and Disavowal) in Theory and Practice // Islam and Christian-Muslim Relations, 2014. Vol. 25. № 1. P. 67-88.
- Shavit U. The Wasati and Salafi Approaches to the Religious Law of the Muslim minorities // Islamic Law and Society. 2012. Vol. 19. P. 416-457.
- Shavit U., Andresen S. Can Western Muslims Be De-radicalized? // Middle East Quarterly. 5 October. 2016.
- Wagemakers J. The Transformation of a Radical Concept: al-wala' wa-l-bara' in the Ideology of Abu Muhammad al-Maqdisi // Global Salafism: Islam's New Religious Movement. New York, 2009. P. 81-106.
- Warren D.H., Gilmore Ch. One Nation under God? Yusuf al-Qaradawi's Changing Fiqh of citizenship in the light of the Islamic legal tradition // Contemporary Islam. 2014. Vol. 8. P. 217-237.
- Yasushi K. Al-Manar Revisited: the "Lighthouse" of the Islamic Revival // Intellectuals in the Modern Islamic World. Transmission, Transformation, Communication. New York, 2006. P. 3-40.