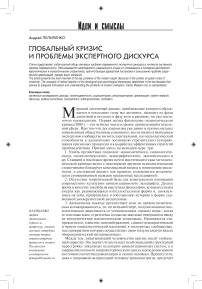Глобальный кризис и проблемы экспертного дискурса
Автор: Пелипенко Андрей Анатольевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой краткий обзор ключевых проблем современного экспертного дискурса в контексте системного кризиса современности. Обосновывается необходимость радикального отказа от сложившихся в последние десятилетия идеологических и психологических стереотипов, препятствующих адекватной постановке и осмыслению проблем современной цивилизации, прежде всего западной.
Системные исследования, дискурс, политкорректность, социоцентризм, антропоцентризм, цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/170166606
IDR: 170166606
Текст научной статьи Глобальный кризис и проблемы экспертного дискурса
М ировой системный кризис, приближение которого обсуждается в последние годы все активнее, выходит из фазы латентной и вступает в фазу хотя и раннюю, но уже достаточно проявленную. Первая волна финансово-экономического кризиса 2008 г. – это не более чем его пролог, проявленный в отдельной сфере. При том что дух алармизма уже давно и прочно овладел современным общественным сознанием, мы не видим в нынешнем экспертном сообществе ни интеллектуальной, ни психологической способности к адекватному осознанию стремительно ускоряющихся кризисных процессов и к выработке эффективных стратегий противодействия. Причин здесь, по меньшей мере, три.
Между тем, охватывающий человечество кризис носит глобальный характер. Это значит, что речь идет не об очередной структурной перестройке локальных культурно-цивилизационных систем, а о завершении некоего макроисторического цикла и рождении нового системного качества цивилизации и самого человека. Процесс этот, даже с поправкой на присущий человеку хроноцентризм, предстает настолько масштабным, что становится очевидным принципиальная невозможность описания этого нового качества в рамках привычного дискурса. Поэтому, чтобы хотя бы в первом приближении схватить суть грядущих и уже начавшихся изменений, требуется, прежде всего, подвергнуть основательной критике сложившийся на сегодня в большинстве экспертных сообществ дискурс.
Здесь возможны следующие позиции.
-
1. Отказ от узкодисциплинарных подходов и реабилитация комплексносинтетических парадигм. Речь идет об основанной на синтезе современного научного знания парадигматике системных исследований ( system studies ) . При этом критерием качества исследований выступает, прежде всего, их объяснительная способность, а не чистота методологических и уж тем более идеологических риз. Синтетическим основанием выступает дискурс теории культуры и отчасти цивилизационного анализа с инструментальным использованием понятийно-терминологического аппарата философии.
-
2. Отказ от всякой как прямой, так и косвенной политической ангажированности. Хотя абсолютная объективность недостижима в принципе, стремиться к ней необходимо. Это так же очевидно, как и то, что недостижимость истины не отменяет необходимости отметать заведомую ложь. Здесь не обойти тему пресловутой политкорректности.
Будучи поначалу невинной интеллектуальной модой, политкорректность превратилась в фактор, серьезно препятствующий адекватному пониманию социокультурной реальности. Оставим в стороне этическою оценку возведения лицемерия в норму, запрета называть вещи своими именами, навязывание ханжеских эвфемизмов, третирования элементарной логики и здравого смысла, игнорирования любых неудобных точек зрения, затыкания ртов, камуфлирования сущего во имя должного и т.д. Корень явления видится в том, что всякая культурная система в истории вырабатывает формы самозащиты от разрушающей ее исторической динамики. Используя арсенал доступных и приемлемых средств, культура блокирует, табуирует и как бы отменяет, выводит из существования все диссистемное, «неправильное», неудобное. При этом действует древнейший психологический механизм:
если нечто убирается из семантического поля, то тем самым оно как бы убирается и из самой реальности. В этом смысле так называемые интеллектуалы недалеко ушли от первобытных охотников, для которых магическая манипуляция с изображением равнялась физическому воздействию на сам изображаемый предмет. И как в свое время церковная инквизиция защищала распадающееся средневековое мировоззрение, так бархатная инквизиция политкорректности защищает сложившуюся в последней четверти ХХ в. леволибераль-ную/социал-демократическую систему, которая все более явно демонстрирует свою неадекватность. Здесь, как и во многих других случаях, защищающая себя система безразлична к процессам глобального развития – ей важно продлить собственное существование. В этом смысле полиция политкорректности призвана продлить жизнь породившей ее системы в ее современной леволиберальной, в широком понимании, модификации. И то что западный мир, оставаясь пока еще авангардом мировой цивилизации, занят, прежде всего, пролонгированием своего status quo , полагая, что тем самым он уберегает от потрясений также и весь остальной мир, – пагубное заблуждение. В этом коренится одно из ключевых противоречий современности: рецепты для решения общемировых проблем берутся исключительно из поваренной книги левого, опять же в широком понимании, либерализма или релевантных ему воззрений. Большинство политиков вынуждены действовать согласно идеологической санкции, предписывающей выбирать не самые адекватные и эффективные решения, но лишь те, что соответствуют установленным «правилам игры» и признаются допустимыми с идеологической точки зрения. Подобная противоестественная ситуация понуждает их лгать, изворачиваться, искать неуклюжие оправдания, прибегать к лицемерным ухищрениям двойных стандартов и т.п. Но принцип здравого смысла (не путать с беспринципным прагматизмом) в современном мире, как ни парадоксально, не имеет под собой почвы – ни мировоззренческой, ни научной, ни идеологической и, следовательно, дискурсивной, – хотя потребность в таком дискурсе ощущается все более остро. Выработка его основ – одна из задач нашей альтернативной экспертизы.
Фундаментальная смена ориентиров диктуется набором глубоких противоречий, разрешение которых в рамках суще -ствующих подходов и ценностных стерео -типов представляется невозможной.
Самое глубокое из противоречий — про -тиворечие между социальным и индиви дуальным. Говоря языком современной социальной философии, это противоре-чие между жизненным миром человека и миром социальных институтов, живущих собственной жизнью и использующих человека как средство. Этот контрапункт не есть порождение современности. Он имманентен человеческим сообществам вообще, и каждая эпоха вырабатывает свои формы гармонизации. Формы эти неизменно подвергаются давлению со стороны исторической динамики и рано или поздно оказываются неадекватными. Подавляющее большинство обществ в истории решало проблему в пользу социо центризма, подчиняя интересы чело века интересам общества в лице тех или иных институтов и инстанций. Западная культурно - цивилизационная система — единственная в истории, реализовавшая в полной мере противоположный, антропо центрический принцип.
Современная конфигурация соотно шения социального и индивидуального в западном мире сложилась после Второй мировой войны, в условиях подъема цен -ности индивидуального начала, когда гуманистический фарватер западной цивилизации получил дополнительный стимул в виде психологического оттор жения ужасов и бесчеловечности войны и нацистских идей, которыми, кстати сказать, в 20-х—30-х гг. была до безумия увлечена чуть ли не вся Европа. При этом отторжение государственного тоталита ризма переросло также и в отторжение социоцентризма как такового, а неприя тие нацизма — в осуждение любого рода национализма, в т.ч. и буржуазного, что в конечном счете и привело к усилению левого мировоззрения. Здесь сл едует вспомнить о том, что любое качество в социально исторической жизни никогда не равно само себе и никогда в сумме своих прямых и косвенных последствий не сводится однозначно ни к положитель ным, ни к отрицательным определениям. Природа истории жестока. Она отрицает «человеческое, слишком человеческое». Так, несколько десятилетий мира и сыто - сти неизменно оборачиваются развраще нием, пресыщенностью, вялостью, ленью и трусостью, параличом политической воли. И, увы, упадок воли к насилию есть одновременно и упадок воли к жизни. Поэтому ни социоцентризм, ни антропо центризм сами по себе ни хороши и ни плохи, но доведение любого качества до крайности делает систему в целом нежиз неспособной, что и угрожает сегодня западной цивилизации.
Другое противоречие — между пре -зумпцией общечеловеческих ценностей и декларацией плюрализма и равенства культурных традиций, образа жизни и т.д. Пикантность заключается в том, что под общечеловеческими ценностями имеются в виду ценности европейские в их либе ральной версии. Во избежание обвинений в европоцентризме, это прямо не про возглашается, но всегда достаточно ясно подразумевается. Жертвой этого противо-речия стал мультикультуралистский про ект. В основе противоречия абсурдность сочетания несочетаемого: презумпции «общечеловеческих» (читай, европейских) ценностей с принципом культурного раз нообразия. Ведь культурное разнообра зие — это не экзотическое дополнение к «общечеловеческим» ценностям, кото рых никогда в природе не существовало. Культурное своеобразие народов проявля-ется, прежде всего, именно в ценностях, этических нормах и в значительной мере — в традициях решения вышеозначенной проблемы гармонизации социального и индивидуального начал, включая также гендерные и поколенческие противоре чия. Осознанию абсурдности этой ситуа ции долгое время мешали специфические психологические аберрации западного сознания. Несмотря на то что идея эво-люционизма XIX в., согласно которой все народы в своем развитии устремля ются к понимаемому в европейском духе прогрессу и проходят одни и те же ста дии, была раскритикована и осмеяна, она крепко въелась в западное сознание. Отсюда уверенность в том, что все люди непременно стремятся к свободе, а тех, кто почему то пока не стремится, никогда не поздно подтянуть и доучить. Отсюда и унылый, присущий в той или иной мере всем культурам самообман: стремление видеть в другом не более чем свое отраже ние — частично искаженное или в чем - то «недоразвитое». Это не удивител ьно:
чтобы понять другого, надо в чем - то пере -стать быть собой, а это под силу очень немногим. Массовому же человеку это вовсе недоступно. Даже если это массо-вый человек самой рациональной и реф -лексирующей культуры — западной.
С этим связано третье противоречие. Оно заключается в том, что западная цивилизация с ее антропоцентрическими (индивидуалистическими, персоналист -скими) ориентирами и ценностями, ори -ентированными на сформировавшийся в эпоху Нового времени тип самоактив-ной, внутренне свободной личности, как и всякая другая, имеет дело главным образом не с личностями в вышеозначен ном смысле, а совершенно иным типом людей — носителями по сути антилич -ностных, социоцентрических ценностей и установок. То, что такой тип людей противостоит Западу за его пределами, — это еще полбеды. Но то что не личности, вышколенные и приученные к жизни в личностной цивилизации, составляют большинство и в самой западной циви лизации — бомба замедленного действия. Идеологема абстрактного культурно-антропологического равенства всячески камуфлирует осознание этой проблемы, и потому на поверхность выступают лишь косвенные ее проявления.
Пора, наконец, признать очевидное: современный антропологический кризис в ареале западной цивилизации — прямое следствие доведения до крайности прин ципов либерального гуманизма. Чтобы это утверждение не казалось нарочито эпатажным, поясним.
Во - первых, отторжение деспотиче -ского насилия, подавления индивидуаль ных свобод, рост ценности человеческой жизни и, в конце концов, стремление избавиться от любого рода «дискурсов вла-сти» продолжает пониматься не как исто -рически преходящая форма самоопреде ления человека в конкретной системе культуры, а как нечто метафизическое, универсально присущее человеку вообще и конечная и наисовершеннейшая форма, к которой тем или иным путем устремля ется все человечество. Эта, говоря языком постмодернистов, метанаррация — мифо-логема, присущая культурному сознанию эпохи модерна, — источник болезненных, а теперь уже и просто опасных аберраций. Это не удивительно: еще несколько деся тилетий назад дискурс модерна выглядел еще вполне метафизично: западные цен ности представлялись как будто бы вполне общечеловеческими и трансисториче скими. Но сегодня инерция такого пони мания донельзя неуместна, как утопичны и наивны в устах современных политиче -ских деятелей руссоистские идеи о том, что все люди по своей природе стремятся к свободе.
Во вторых, как уже говорилось, прин ципы либерального гуманизма предпо лагают своим субъектом самоактивную, ответственную творческую личность, каковых в любом обществе набирается не более 5—7%. Остальная, состоящая не из личностей часть общества просто вынуж дена адаптироваться к навязываемым «правилам игры» в западном обществе, где личностное начало выражено наибо лее полно и сильно и к тому же закреплено в культурной традиции. Это противоречие носит пока полулатентный характер. Но когда нормы цивилизации личности при вносятся туда, где такой традиции нет, результат получается, как в Ираке или Афганистане.
В третьих, доведение какого то культур ного принципа до крайнего выражения всегда приводит к энтропии всей системы. Снятие необходимой для продуктив ных противоречий разности смысловых потенциалов и стоящих за ними социаль ных сил и мотивов неизбежно приводит к мертвой эклектике, угасанию жизненных сил общества, смерти идеалов, инфляции социоисторических стратегем и общему обессмысливанию существования. Речь не идет о банальной пошлости и цинизме обывателя или об узколобой мелкотравча тости политиков. Речь идет о глубинных культурно исторических процессах, опре деляющих системный характер кризиса, и о возможных путях его преодоления.
Могут спросить: почему проблемы западного общества рассматриваются из России? Разве здесь нет своих проблем? Ответ такой. Разумеется, свои проблемы в России есть, и еще какие! Россия — часть, по крайней мере в некотором смысле и в некоторой своей части, европейской цивилизации. И ряд кризисных процес сов в России и в Европе, имея, казалось бы, совершенно разные причины, про текают параллельно. Это создает общую площадку для обсуждения. Кроме того, западная цивилизация — это хотя и сдаю -щий постепенно свои позиции, но все же авангард мировой цивилизации. И потому ее кризис — это кризис мирового масштаба. Здесь не может быть посторон-них. К тому же взгляд со стороны нередко бывает более трезвым и объективным, чем взгляд изнутри.
В целом же, отправной точкой анализа может стать положение о том, что «белая цивилизация» закономерным образом уходит с исторической арены. Но как она уйдет, в какие сроки и при каких обстоятельствах, что из ее исторического опыта будет унаследовано приходящими на смену — далеко не последний вопрос. По - иному этот вопрос можно сформули -ровать так: каким будет новый макроци -вилизационный синтез, контуры которого намечаются уже достаточно ясно? Другая сторона того же вопроса — более глубо -кий, нежели политологический, анализ пресловутого «конфликта цивилизаций». Ведь, к примеру, объяснение активиза ции мира ислама или экспансии Китая, совершенно разных по своим глубинным историко - цивилизационным основаниям, не выводится из краткосрочных полити ческих конъюнктур. В этом контексте, к примеру, вполне правомерно в культуро логическом ключе рассматривать вопрос о возможности синтеза «классических» западных форм демократии с принципами конфуцианской этики и т.д., и т.п.
Формулируя многочисленные выте -кающие из этого основного вопроса про блемы, следует оговорить отказ от некото рых бесплодных, на наш взгляд, но почти общепринятых стереотипов. Это, как уже говорилось, мифы об антропологическом единстве человечества и о неких общече ловеческих ценностях. И никакой полит корректности! Принцип: называть вещи своими именами — на первом месте.
Из сказанного выше может сложиться впечатление, что речь идет о солидар ности с широко понимаемым консерва тизмом. Несмотря на наличие некото рых точек соприкосновения с послед ним, в целом, тем не менее, это не так. Реставрационно - охранительный и архаично-морализаторский ответ на вызовы современной культурно исторической динамики заведомо неадек ватен, и консервная стратегия, по нашему мнению, будущего не имеет. Солидарность же с консерваторами выражается главным образом в неприятии левацкого и социа листического мировоззрения во всех его проявлениях, включая и леволибераль ное.
К этому следует добавить, что такие традиционные направления анализа, как экономический, социологический, поли тологический и экологический, хотя и присутствуют с необходимостью в нашем дискурсе, но при этом все же отодвигаются на второй план. В центре же нашего вни мания — системные исторические, циви-лизационные и теоретико культурные факторы, так или иначе связанные с ключевым концептом ментальности и характеристиками культурного сознания. Поэтому именно ментальность может выступать ключевым понятием нового дискурса, призванного разработать и обо сновать новые принципы стратификации людей как субъектов исторически меня ющихся культурно - цивилизационных систем. Идея такой стратификации давно носится в воздухе, но пока продолжает блокироваться полицией политкоррект ности, а на нарушителей безосновательно навешиваются ярлыки нацистов, расистов и т.п. Но кто то должен, в конце концов, оказаться тем самым мальчишкой, кото рый осмелился выкрикнуть, что король голый. Для спасения самого короля.