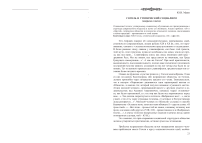Гоголь и утопический социализм (штрихи к теме)
Автор: Манн Юрий Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: In memoriam
Статья в выпуске: 3 (22), 2012 года.
Бесплатный доступ
Отношение Гоголя к утопическому социализму обусловлено его представлением о структуре современного общества и путях его эволюции. Анализ проблем: «Я» и «Другой», потрясение общества и психологии отдельного человека, наследования и слома традиций - производные от этой задачи.
Н.в. гоголь, утопический социализм,
Короткий адрес: https://sciup.org/14914747
IDR: 14914747
Текст научной статьи Гоголь и утопический социализм (штрихи к теме)
Н.А. Бердяев говорил об «апокалиптическом» переживании, свойственном его современникам, людям рубежа XIX и XX вв.; оно, это переживание, связано с «эсхатологическими предчувствиями и надеждами». В более раннюю эпоху, скажем у славянофилов, «не было этой тревоги, этой жути, этого трагизма, почва не колебалась под ними, земля не горела, как под нами... Славянофилы жили, как люди, имеющие свой град -древнюю Русь. Мы же живем, как града своего не имеющие, как Града Грядущего взыскующие...»1. А как же Гоголь? При всей практичности, выношенности, последовательности, подчас даже схематизме гоголевских построений чувства тревоги, уходящей из под ног почвы ему было не занимать. Тут он намного превосходил славянофилов, предвосхищая тип сознания более позднего времени.
Однако же функции «чувства тревоги» у Гоголя многообразны. Одна из них по-своему благотворная, ибо исправление общества, по Гоголю, должно произойти через потрясение каждого его члена. Знаменательно, что в настрое «Переписки» развивается один характерный пассаж из «Шинели», а именно тот, который получил название «гуманного места». «Один молодой человек», принимавший вместе с другими участие в издевательствах над Акакием Акакиевичем, однажды «вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним...». Так должен содрогнуться и читатель «Выбранных мест...», когда узнает, «что есть такие страданья человека, от которых и бесчувственная душа разорвется...»2. Молодой человек из «Шинели» услышал в жалобе Башмачкина «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» «другие слова: «Я брат твой». «.. .Все люди - братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое» (VIII, 412) - провозглашено и в «Выбранных местах...», в статье «Светлое воскресенье» (курсив в цитатах везде, кроме оговоренных случаев, мой -Ю.М.).
Это означает, что при сохранении социальной структуры в обществе должны утвердиться христианские, истинно братские отношения.
Проблема исправления общества путем исправления каждого человека приближала мысль Гоголя к кругу социалистических идей, особен- но в его последней книге. «В заключительной главе “Выбранных мест из переписки с друзьями” (“Светлое воскресенье”) Гоголь проговаривал свое знакомство с социал-христианскими идеями...»3. О факте такого «проговаривания» писал еще Чижевский в 1978 г, определяя отношение Гоголя к этим идеям в категориях одновременного приятия и отталкивания, «да» и «нет», «Ja» и «Nein» (статья написана на немецком языке). «...Рядом со своими “реакционными” взглядами в своей “теоретической” книге [подразумеваются «Выбранные места...»-Ю.М.^ Гоголь говорит о социализме без всякого отторжения, даже с определенной долей признания», - с ним связано «открытие», направленное на то, «чтобы все было общее - и дома и земли». «Кажется, и здесь, в области социального, противоположности, да и нет могут находиться рядом, не нуждаясь в том, чтобы кто-либо подумал о возможности их примирения и объединения»4.
Чтобы увидеть, справедлив ли вывод Чижевского, приведем соответствующее место из статьи о празднике Воскресенья максимально полно.
«Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастии человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвесть; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее - и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбимым его движеньям! Но на этом-то самом деле, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата - он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, - он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, не согласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях, - он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше других требующий состраданья к себе, - он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбляли его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятье всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершеннейший христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, на место того, чтобы призвать его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!» (VIII, 411).
Источник напряжения гоголевской мысли - в столкновении двух начал: человечество в целом и один человек. Оказывается, легче полюбить человечество, чем отдельного его представителя (предвосхищение знаменитого тезиса Достоевского - полюбите не людей вообще, а своего соседа). Отдельный человек конкретен, осязаем, между ним и тобою (нами) разнообразные видимые свойства и поступки, порою действительные оскорбления, а порою какие-нибудь ничтожные несогласия, недоразумения, мелкие прегрешения или вообще отсутствие таковых. Источник диссонанса уже в том, что он (равно как и ты по отношению к нему) ближний; человечество же в целом - абстракция. К абстракции невозможно питать те же чувства, что к живому существу, только другому.
«Другой», как известно, - один из важнейших элементов теории литературы, обозначающий различные степени независимости персонажа от автора (рассказчика, повествователя, хроникера и т.д.). Самая высокая степень независимости, когда герои выступают по отношению к автору как «субъекты равноправного сознания»5. Но в контексте гоголевской мысли о жизнестроении степень самосознания не важна, вопрос поставлен по-другому и сводится к элементарному притязанию человека на существование, на жизнь.
Как и в других случаях, выводы Гоголя основаны на личном опыте, вернее на попытке его преодоления. В письме к С.Т. Аксакову от 18 декабря и. ст. 1847 г. Гоголь делает неожиданное признание, высказывает «сущую правду»: «.. .Я вас любил, точно, гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти. Но любить кого-либо особенно, предпочтительно я мог только из интереса». Однако, продолжает Гоголь, положение меняется: «Мне кажется, что я теперь все-таки люблю вас больше, нежели прежде, но это потому только, что любовь моя ко всем вообще увеличилась: она должна была увеличиться, потому что это любовь во Христе» (XIII, 415-416; курсив в оригинале).
Итак, один вид любви - это просто отсутствие ненависти. Другой -более заметен, активен, но это потому, что он проистекает из личного интереса. Но высший тип любви не обусловлен никакими условиями, потому что это просто любовь - «любовь во Христе».
Вне гоголевского контекста может показаться странным сетование на то, что Христа «выгнали на улицу <...>, в лазареты и больницы» - разве там он не нужен? Но речь опять идет о почине, стимуле, исходном пункте: «призвать его [Христа] к себе в домы, под родную крышу свою» - значит начинать с себя, чтобы раскрыть ближнему своему объятия любви. И шпилька в адрес тех, кто поговаривает о том, чтобы «все было обще - и дома и земли» - это продолжение той же мысли о неадекватности средств и путей. Обобществление собственности (мысль, по Гоголю, настолько непродуктивная, что он упомянул ее лишь вскользь) не приведет к перестрой- ке психики, а значит, и к установлению человеческой гармонии. (Гоголь сильнее подчеркнет эту мысль чуть позже в ответ на критику «Выбранных мест...» Белинским: «Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние ком<м>унисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и гра<бить> тех, [которые нажили себе состояние?]» - XIII, 440).
С ироническим упоминанием «странноприимных домов» («... стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов») как будто бы контрастирует реальный факт: Гоголь, по словам его сестры Анны Васильевны, «мечтал построить такой дом, чтобы всем была хорошая комната, а в середине общая гостинная. Он желал, чтобы сестры не выходили замуж и устроить вроде монастыря или странноприимного дома»6. Однако в данном случае Гоголь, говоря его языком, действительно приглашает Христа к себе в дом, то есть снова начинает с себя и своих близких.
И, кроме того, гоголевский «странноприимный дом» в корне отличается от человеколюбивого заведения социалистического толка. Имущественные отношения, власть помещика над крестьянином остаются незыблемыми; более того, они освящаются, укрепляются обоюдным исполнением каждой из сторон своего долга, обязанностей - всего того, что Гоголь определял словом «поприще». Отсюда своеобразный обряд инициации. Помещику Гоголь рекомендует: «Припомни отношения прежних помещиков-хозяинов к своим мужикам: будь патриархом, сам начинателем всего и передовым во всех делах. Заведи, чтобы при начале всякого общего дела, как-то: посева, покоса и уборки хлеба - был пир на всю деревню...» и т.д. (VIII, 324), Радостное, с энтузиазмом, участие всех в «общем деле» только укрепляет положение помещика как «хозяина», а вместе с тем и всю социальную структуру общества.
Дело это не простое ни в масштабе одного хозяйства (имения), ни тем более всего государства. Из общественных событий Гоголь готов признать благотворным не социальные потрясения, чреватые нарушением всех человеческих связей, но, скажем, общенациональный подъем «двенадцатого года», когда «всякие ссоры, ненависти, вражды - все бывает позабыто, брат повиснет на груди брата, и вся Россия - один человек» (VIII, 418). Но этот пример только оттеняет безмерную трудность установления братских отношений, Всемира7 в мельтешении, суете, дрязгах будничной жизни.
Список литературы Гоголь и утопический социализм (штрихи к теме)
- Бердяев Н.А. А.С. Хомяков. М., 1912. С. 28-29
- Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. Т. XIII. Б.м., 1952. С. 204
- Михед П.В. Гоголь и сен-симонизм//Феномен Гоголя. СПБ., 2011. С. 360
- Tschizewskij D.I. Gogol’s Ja und Nein//Archiv fuer das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 1978. Bd. 215. S. 349
- Тамарченко Н.Д. Типология реалистического романа. Красноярск, 1988. С. 10
- Крутiкова Н.Е. Дослiдження i статтi рiзних рокiв. Киiв, 2003. С. 298
- Янушкевич А.С. Философия и поэтика гоголевского Всемира//Феномен Гоголя. СПб., 2011. С. 33-49