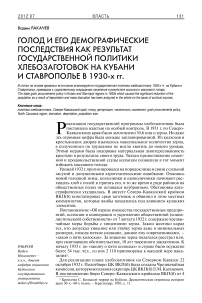Голод и его демографические последствия как результат государственной политики хлебозаготовок на Кубани и Ставрополье в 1930-х гг
Автор: Ракачев Вадим Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 7, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе архивных источников анализируется государственная политика хлебозаготовок 1930-х гг. на Кубани и Ставрополье, приведшая к существенному сокращению населения в результате высылки и массового голода.
Политика хлебозаготовок, северо-кавказский край, голод, депортации, численность населения
Короткий адрес: https://sciup.org/170166465
IDR: 170166465
Текст научной статьи Голод и его демографические последствия как результат государственной политики хлебозаготовок на Кубани и Ставрополье в 1930-х гг
Р еализация государственной программы хлебозаготовок была поставлена властью на особый контроль. В 1931 г. по Северо-Кавказскому краю было заготовлено 30,6 млн ц зерна. Но даже эта огромная цифра была меньше запланированной. Из колхозов и крестьянских дворов изымалось максимальное количество зерна, а полученного по трудодням не могло хватить до нового урожая. Этими мерами была подорвана материальная заинтересованность крестьян в результатах своего труда. Только предоставление семен-ной и продовольственной ссуды колхозам позволило в тот момент избежать массового голода.
Урожай 1932 г. прогнозировался на порядок ниже в связи с сильной засухой и допущенными агротехническими ошибками. Опасаясь новой голодной зимы, колхозники и единоличники начинают рас хищать хлеб с полей и прятать его, в то же время в ряде районов на общественных полях он оставался неубранным. Обстановка ката строфически ухудшалась. В августе Северо Кавказский крайком ВКП(б) констатировал срыв заготовок и обвинил в этом местных коммунистов, которые якобы находились под влиянием кулацких элементов.
РАКАЧЕВ Вадим
Постановление «Об охране имущества государственных предпри-ятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социа листической) собственности» от 7 августа 1932 г. содержало чрезвычайные меры борьбы с хищениями зерна. Закон жестоко карал тех, кто допускал хищение или утайку зерна даже в минимальных размерах, отсюда меткое название, данное ему современниками, — «закон о пяти колосках». За хищение зерна полагался расстрел или, при смягчающих обстоятельствах, 10 лет тюремного заключения. К началу 1933 г. по «закону о пяти колосках» в стране было осуждено более 54 тыс. чел., из них 2 110 приговорены к высшей мере нака-зания1.
Для реализации плана хлебозаготовок на Северном Кавказе 22 октября 1932 г. Политбюро ЦК ВКП(б) была создана Чрезвычайная комиссия, которую возглавил секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович. В постановл ении бюро Северо Кавказского крайкома ВКП(б) от 4
ноября 1932 г. «О ходе хлебозаготовок и севе по районам Кубани» говорилось: «Ввиду особо позорного провала плана хлебозаготовок и озимого сева Кубани поставить перед парторганизациями в районах Кубани боевую задачу — сломить саботаж хлебозаготовок и сева, организо-ванный кулацким контрреволюционным элементом, уничтожить сопротивление части сельских коммунистов, ставших фактическими проводниками саботажа, и ликвидировать несовместимую со званием члена партии пассивность и примиренче ство к саботажникам»1.
Главным рычагом обеспечения хлебо-заготовок становятся репрессивные меры экономического и административного воздействия, в т.ч. занесение на «черные доски» (в списки враждебно настроенных) и выселение «саботажников». В отноше-нии целых станиц, занесенных на «черную доску» за срыв хлебозаготовок, применя лись такие меры, как немедленное прекра щение подвоза товаров и полное прекра -щение кооперативной и государственной торговли, вывоз из кооперативных лавок всех наличных товаров; полное запреще-ние колхозной торговли как для колхозов, колхозников, так и единоличников; пре кращение всякого рода кредитования и досрочное взыскание кредитов и других финансовых обязательств; проверка и очистка органами РКИ колхозных, коо -перативных и государственных аппаратов от всякого рода чуждых и враждебных эле ментов; изъятие органами ОГПУ органи -заторов саботажа хлебозаготовок.
Станичников предупреждали, что в случае продолжения саботажа сева и хле бозаготовок перед правительством будет поставлен вопрос об их выселении в северные области и заселении этих станиц добросовестными колхозниками, рабо тающими в условиях малоземелья и на неудобных землях в других краях.
Так, в Невинномысский, Славянский, Усть-Лабинский, Брюховецкий, Старо -минский, Кущевский, Павловский, Кропоткинский, Новоалександровский и Лабинский районы полностью пре кратили завоз товаров в кооперативные и государственные лавки, а в Ейском, Краснодарском, Курганском, Коре
-
1 О ходе хлебозаготовок и севе по районам Кубани: Постановление бюро Северо - Кавказского крайкома ВКП(б) от 04.11.1932 // Молот, 1932,
новском, Отрадненском, Каневском, Тихорецком, Армавирском, Тимашевс-ком и Новопокровском районах не только прекратили завоз, но и вывезли товары со складов райпотребсоюза и товарных баз промышленности и кооперации2.
-
14 декабря 1932 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в Западной области». Постановление было настолько жестким и суровым, что его не решились публико вать в открытой печати. Среди мер нака зания было требование «выселить в крат чайший срок в северные области СССР из станицы Полтавской как наиболее кон трреволюционной всех жителей за исклю чением действительно преданных соввла сти и не замешанных в саботаже хлебо заготовок колхозников и единоличников и заселить эту станицу добросовестными колхозниками красноармейцами, рабо тающими в условиях малоземелья и на неудобных землях в других краях, передав им все земли и озимые посевы, строения, инвентарь и скот выселяемых»3.
Станицы, выполнившие план хле бозаготовок, снимались с черной доски: Темиргоевская (на 100,8%) и Новорождественская (на 100,2%). Станица Полтавская была снята с «чер ной доски» ввиду окончания выселения ее жителей за пределы края и заселения ее демобилизованными красноармейцами. Крайисполком постановил переименовать эту станицу, учитывая желание вновь все лившихся. По подсчетам Е.Н. Осколкова, к середине января 1933 г. из кубанских ста ниц было выселено за «саботаж» хлебоза готовок не менее 63,5 тыс. чел. П.М. Полян называет цифру 45 тыс. чел.4
Под страшным давлением репрессий к 15 января 1933 г. в крае было заготовлено 18,3 млн ц хлеба. Для этого потребовалось сдать в счет хлебозаготовок 2/3 валового урожая зерновых, полученного колхозами, в т.ч. и весь семенной фонд, но планы так и не были выполнены, осенний сев не завершен и хлебозаготовки в крае продолжались до весны 1933 г.
Несмотря на тяжелое положение, начи-навшийся массовый голод, в 1932 г. из страны было вывезено 18 млн ц хлеба. При валовом сборе в 698,7 млн ц это отно-сительно немного, но был вывезен хлеб ный паек, как минимум, 7 млн крестьян. Экспорт хлеба в 1932—1933 гг. принес го -сударству всего 389 млн руб., в то же время от продажи лесоматериалов страна полу чила почти 700 млн, нефтепродуктов — еще столько же. Продажа пушнины в 1933 г. позволила выручить средств больше, чем за вывезенный в том же году хлеб. Таким образом, экспорт зерна не дал крупных валютных поступлений для закупки за рубежом техники и оборудования1.
Северо - Кавказский край, который был одним из основных поставщиков хлеба в стране, вошел в число регионов с наимень шим количеством хлеба, выданного кол хозникам по трудодням. В 1931 г. в колхозах края на трудодень было выдано по 2,5 кг зерна, в 1932 г. — только 1,4 кг. Следует отме-тить, что это округленная цифра по краю, и часть колхозов не получили зерна вообще.
Результатом чрезвычайных мер, исполь-зованных при хлебозаготовках, стал раз разившийся зимой с 1932 г. на 1933 г. страшный голод. Люди падали на доро-гах, умирали на ходу от дистрофии. Из 75 районов Северо Кавказского края голод охватил 44 района. В феврале 1933 г. бюро крайкома вынуждено было официально признать «факты прямого голодания в отдельных станицах».
Документы о голоде — страшная правда о том времени. В Курганском, Армавирском, Новоалександровском, Лабинском, Невинномысском, Ессентукском и еще 17 районах по далеко не полным данным учтено: «опухших от голода — 1 742 чел.; заболевших от голода — 898; умерших от голода — 740; случаев людоедства и трупо -едства — 10 чел. В голодающих населенных пунктах имеют место случаи употребления в пищу различных суррогатов: мясо павших животных (в том числе сапных лошадей), убитых кошек, собак, крыс и т.п.»2.
Один из главных виновников организо-ванного голода Л.М. Каганович во время поездки на Северный Кавказ в ноябре 1932 г. — феврале 1933 г. в своем дневнике вину за голод перекладывает на кулаков и классовую борьбу: «Отмечен ряд случаев, когда дети пухнут от голода, когда налицо острое недоедание, а начинают искать и находят зарытыми по 75—100 пуд. хлеба (в ст. Петровской, в ст. Старо Минской и др.). При допросе глава семьи мол чит или говорит: “Нам не привыкать”... Классовая борьба у кулачества прини мает формы изуверского террора: облили бензином и подожгли уполномоченного крайкома, избили и издевались над зам. председателя сельсовета женщиной»3. В отчетном политдонесении политотдела Новопластуновского МТС за период с 16 января по 16 ноября 1933 г., в частности, говорилось: «...план 1933 г. выполнен не был. Это был период саботажа, органи зованного кулачеством в первую оче редь вокруг вопроса о хлебозаготовках. Массовое расхищение урожая, в частности кукурузы, укрытие его в ямы, ожесточен ная агитация за несдачу хлеба государству, пропаганда воровства, ярко выраженная в кулацком лозунге “не ворующий не ест” — вот характерная обстановка хлебозаго товок прошлого года»4.
Тексты документов просто и буднично отражают страшные последствия дея тельности комиссии Л.М. Кагановича. «Правления колхозов ежедневно были осаждены колхозниками — просителями о выдаче “хоть чего -нибудь, что можно было есть”, — сообщает политдонесение. — И правление колхозов скупо выдавало на 2—3 дня то, что имели: кислую капу сту, березку и куколь, заменявшие хлеб. Значительная часть колхозников от дли -тельного недоедания и питания суррогатом была пухлая. 1300 чел. по району деятель ности МТС в эти предвесенние месяцы и первые весенние (3—4) вымерли. Причем большей частью взрослые мужчины и ста рики. Женщины оказались выносливее».
Ужас голодных лет раскрывают воспо - минания людей, переживших это время. «В первый колхозный год расчет годовой был прост. Выдали в конце года по 9 пудов = 144 кг зерна на едока. Этого было явно недостаточно. Считается нормальным 300 кг зерна в год на каждого члена семьи. На второй год (на трудодень) выдали и того меньше. А уж на третий колхозный наша семья, 9 человек, получила всего 4 мешка ржи, это около 300 кг, т.е. что надо иметь на одного человека, — вспо-минает И.И. Ермаков, проживавший в Белоглинском районе. — В 1932 г. наша семья получила за целый год работы в колхозе всего лишь 1 мешок (40 кг) куку рузы в кочанах. Народ остался без хлеба совершенно»1.
«В отдельных станицах умирали целыми семьями, — пишет очевидец. — Ели собак, собирали дохлых ворон вдоль дорог, лазали по мерзлым полям в поисках колосков или кочанов кукурузы... Были случаи и людо -едства... С наступлением весны появилась надежда. Для посевной в 1933 г. государ -ство выделило семена. Лошади, перези-мовавшие на одной полове, были слабы. Привлекали к работе индивидуальных коров колхозников. Обучили их ходить в ярме, на них пахали и сеяли. Корова тоже получала трудовую книжку, ей начисляли трудодни, и на них выдавали муку так же, как и людям»2.
Демографическая статистика 1930-х гг., хотя и является не вполне объективной, позволяет судить о характере демографи ческих процессов в период голода 1932— 1933 г. В 1933 г. в стране не было естествен ного прироста, население сократилось на 1 315,2 тыс. чел.3 Пик убыли населения пришелся на середину 1933 г. В Северо Кавказском регионе в 1933 г. родились 138 861 чел., умерли 416 664 чел. Таким образом, смертность втрое превышала рождаемость, причем 75,5% умерших составляли сельские жители.
Весной 1933 г. о голоде стало известно за границей. В нашей же стране дол гие годы это было закрытой темой. И.И. Алексеенко предполагает, что в ста ницах «особо неблагоприятных районов» число умерших от голода колебалось от 40 до 60%, а в отдельных местах — и более. На основе косвенных данных английский историк Р. Конквест предположил, что в 1932—1933 г. от голода в СССР погибли 7 млн чел., в т.ч. до 1 млн чел. на Северном Кавказе (из них около 80% смертей при ходится на северо западны е районы Кубани)4. По подсчетам Центрального управления народнохозяйственного учета (ЦУНХУ), общее число смертей, попа -давших в общегражданскую регистрацию, составило в 1933 г. около 5,7 млн чел. Но и эти данные неполные. Если учесть не отраженную в статистике убыль населе ния, то эта цифра составляла 6,7 млн чел., а число жертв голода среди этих умерших — примерно 50%, т.е. более 3 млн чел.
Существенное сокращение населения в важном с экономической и военно стратегической точки зрения регионе привело власти к пониманию необхо димости восполнения демографических потерь. В связи с этим осуществляется массовое переселение демобилизованных красноармейцев на Кубань. Несмотря на компенсационные переселения, числен ность населения Кубани и Ставрополья существенно уменьшилась. Она не смогла восстановиться и к концу 1930 х гг. Не подлежит сомнению, что это сказывалось на общем состоянии страны, подрывало ее потенциал, не говоря уже о психоло гическом состоянии населения районов, охваченных голодом, бессилии, пода вленности, страхе. Речь идет не о сотнях и тысячах погибших от голода и репрессий, а о гораздо большем числе человеческих жизней.