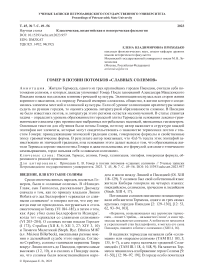Гомер в поэзии потомков «славных солимов»
Автор: Приходько Елена Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Классическая, византийская и новогреческая филология
Статья в выпуске: 7 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Жители Термесса, одного из трех крупнейших городов Писидии, считали себя потомками солимов, о которых дважды упоминает Гомер. После завоеваний Александра Македонского Писидия попала под сильное влияние греческой культуры. Эллинизация коснулась всех сторон жизни коренного населения, и к периоду Римской империи сложилось общество, в жизни которого соединились элементы местной и эллинской культуры. Если об уровне эллинизации архитектуры можно судить по руинам городов, то оценить уровень литературной образованности сложнее. В Писидии не было известных поэтов, и литература этого региона остается малоизученной. В статье ставится задача - определить уровень образованности городской элиты Термесса на основании лексико-грамматического анализа трех произвольно выбранных погребальных надписей, написанных гекзаметром. Основным текстом для обучения были поэмы Гомера, поэтому автор выявляет в структуре каждой эпитафии все элементы, которые могут свидетельствовать о знакомстве термесских поэтов с текстом Гомера: принадлежавшие эпической традиции слова, гомеровские формулы и свойственные эпосу грамматические формы. В результате автор показывает, что 43,6 % текста этих эпитафий заимствовано из эпической традиции, и на основании этого делает вывод о том, что образованные жители Термесса хорошо знали поэмы Гомера и даже пользовались его формулой для своего этнического самовыражения, гордо называя себя «славными солимами».
Писидия, термесс, солимы, гомер, эллинизация, эпитафия, гомеровская формула, образование в римской провинции
Короткий адрес: https://sciup.org/147241472
IDR: 147241472 | УДК: 821.14'02, | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.957
Текст научной статьи Гомер в поэзии потомков «славных солимов»
ВВЕДЕНИЕ, ИЛИ КТО ТАКИЕ СОЛИМЫ
Среди многочисленных народов, воспетых Гомером, были и «славные солимы». В «Илиаде» Главк, сын Гипполоха, рассказывает Диомеду сначала о том, как по приказу владыки Ликии Иобата его дед Беллерофонт «сражался со славными солимами»1 и говорил потом, что ему никогда еще не приходилось погружаться в столь ожесточенную битву (VI 184–185), а затем о том, как Арес убил сына Беллерофонта Исандра2, когда тот «сражался со славными солимами» (VI 203–204). О солимах позже писали Геродот (I 173), Страбон (XII 8, 5; XII 3, 27; XIV 3, 10) и Тимаген Милетский (Steph. Byz. Ethnica M187 (s.v. Μιλύαι) Billerbeck), высказывая разные мнения о дальнейшей судьбе этого народа. Согласно Страбону, солимы «занимали вершины Тавра вокруг Ликии вплоть до Писидии, причем самые высокие» (I 2, 10), и в схолиях к Пиндару сказано, что солимы были воинственнейшим наро-
дом и жили между Ликией и Писидией (Ol. XIII 118–129). У солимов был свой собственный язык: жители Кибиры говорили на четырех языках: писидийском, солимском, греческом и лидийском (Strab. XIII 4, 17).
Потомками солимов неизменно позиционировали себя жители Термесса, одного из трех самых крупных городов Писидии [2: 129–130], [12: 53, 62, 93–94, 103].
«Вершина, возвышающаяся над акрополем термес-сцев, – пишет Страбон, – называется Солим3, и сами тер-мессцы называются солимами. А поблизости находится и укрепленный стан Беллерофонта, и могила его сына Писандра, павшего в битве с солимами» (XIII 4, 16).
В надписях термессцы называли себя «соли-мами» или «народом солимов» (TAM III.1 103, 5; 135, 6–7), а сам город величали «родиной Соли-меидой» (TAM III.1 18, 4; 548, 9). На монетах Термесса чеканилось изображение героя Солима [9: 41–50], [12: 96–97, 191]. В городе особо почитался
Зевс Солимей, жрецы которого исполняли свои обязанности пожизненно (TAM III.1 22, 26, 52, 83 А, 84, 96 и т. д.).
Проблема, вынесенная для обсуждения в данной статье, по хронологии будет касаться I–III веков н. э., то есть того периода истории Термесса, когда город, активно хранивший память о своем солимском происхождении, уже подвергся эллинизации и оказался внутри эллинской культуры.
ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ПИСИДИИ
И ПРОБЛЕМА УРОВНЯ ОБРАЗОВАННОСТИ
Хотя во время своего стремительного марша через Малую Азию в 334–333 годах до н. э. Александр Македонский отказался от идеи захвата Термесса, в дальнейшем город, как и вся Писидия, попал под сильнейшее влияние греческой культуры. Заселяя Писидию и соседние области Анатолии, эллины, уверенные в превосходстве своей культуры, начали повсеместно внедрять привычные для них формы политической и социальной структуры. Однако они не ставили перед собой цели полного уничтожения коренного населения и его образа жизни – шел процесс постепенной ассимиляции, при котором не только жители Анатолии усваивали нормы эллинской жизни, но и эллинская культура обогащалась за счет включения отдельных автохтонных обычаев. Этому процессу весьма способствовало большое количество смешанных браков, заключавшихся между греками и представителями городских элит. Происходившее взаимовлияние, конечно же, никоим образом не было равным, культура иммигрантов во всем превалировала, и в результате к периоду Римской империи как в Термессе, так и во всем регионе произошла «интернационализация эллинских нравов» [6: 50], сложилось общество, в жизни которого сплавились в неделимое целое элементы местной и эллинской культуры и которое с гордостью считало себя частью эллинского мира, не забывая при этом о своих солимских или писидийских корнях.
Древнегреческий язык полностью вытеснил писидийский и другие языки юго-западной Анатолии, тем более что у писидийского языка не было богатой письменной традиции. Но при этом даже среди самых образованных семей остались в обиходе многие местные имена. Так, в надписях из Термесса можно встретить горожан с именами Троконд, Троил, Обри-мот, Обролам, Осбар, Кбедасий, Кендей, Котт(ес), Мол(ес), Опл(ес), Пиатерабий, Пиллакой, Кинну-ний и горожанок с именами Нанелида, Армаста, Оа, Ана, Коркена, Моланиса, На, Морсанда, Кил- ла и т. д. В архитектуре городов преобладали греческие черты: в них были построены храмы, театры и одеоны, булевтерии, портики с колоннами, гимнасии и бани, – но при этом в рельефном украшении гробниц сосуществовали и переплетались греческие гирлянды и писидийские щиты, анатолийские погребальные двери и римские портреты хозяев усыпальниц. Повсеместно в пантеоне богов утвердились греческие боги, но в их почитании часто присутствовали такие элементы культа, каких у самих греков никогда не было. Помимо привычных храмов, небожителям посвящали скальные святилища в сельской местности, а иконография богов нередко принципиально отличалась от греческих образцов. Так, на обетных стелах из святилища Перминунта Аполлон изображен в виде восседающего на коне всадника [4: 43–46, 167–169, № 293–297], а в святилищах Педнелисса и древнего города возле Коджа-алилер изображения Аполлона, одетого в хитон, плащ и сапоги, следовали иконографии Аполлона Сидетского – именно в таком виде изображался бог на серебряных статерах из Сиды IV века до н. э., а также на монетах римского времени [8: 89–90]. В музее Бурдура хранится мраморный алтарь, на котором в виде размахивающего трезубцем бога-всадника изображен Посейдон [4: 67, 192, № 365]. Анатолийская традиция создания вотивных скальных святилищ продолжала существовать и в римское время. На землях Пи-сидии и Кибиратиды было обнаружено много святилищ Какасба и Геракла, Диоскуров и Ареса, а также местночтимых Суровых–Справедли-вых богов – их культ, скорее всего, изначально принадлежал солимам [1]. Интересно, что Су-ровым–Справедливым богам в Термессе было посвящено большое скальное святилище, и в вырезанной там надписи говорилось о существовании в городе фиаса – религиозного сообщества почитателей этих богов [5: 197–210], [7].
Как строилось обучение в Термессе и в целом во всей Писидии до похода Александра Македонского, нам неизвестно. Эллины принесли свою систему образования, которая, распространившись, стала весьма востребованной, поскольку, даже в чисто практическом аспекте, способствовала повышению социального статуса и открывала перспективы для карьерного роста [6: 54, 74]. Основным текстом, по которому начинали обучать детей читать и писать, были поэмы Гомера, и в первую очередь «Илиада». Для древнего эллина Гомер всегда был неоспоримым воплощением греческой культуры, и, окунувшись в эллинскую среду, жители Анатолии стали понимать, что способность процитировать Гомера не просто выступала признаком образованности, но и означала принадлежность к более престижной культуре [6: 57].
Если об уровне эллинизации устройства городов и городской архитектуры можно достаточно определенно судить по сохранившимся до наших дней руинам, то оценить уровень литературной образованности значительно сложнее. Писидия не стала родиной ни одного известного поэта или писателя, хотя поэтическое творчество Леонтиана, сына Леонтиана, из города Адады, безусловно, заслуживает внимания [10]. Из письменных свидетельств в нашем распоряжении есть только надписи, которые по своей природе всегда рассматривались как официальные документы. Это могли быть зафиксированные на камне декреты или постановления, обычно очень короткие обетные надписи, почетные надписи, перечислявшие все заслуги какого-то гражданина, а также погребальные надписи, составлявшиеся как своего рода распоряжение по использованию гробницы, где фиксировались права на усыпальницу, размер штрафа в случае нарушения ее покоя и юридическое лицо (совет города или святилище бога), назначенное получателем штрафа. Всем этим эпиграфическим жанрам была свойственна строгая проза. Но в отдельных случаях тот, кто воздвигал статую с посвятительной надписью на постаменте или обустраивал свою родовую усыпальницу, принимал решение выразить свои мысли в стихах. Авторство таких стихотворений установить невозможно – человек мог как написать их сам, так и заказать какому-то местному поэту, чье имя не покинуло пределов родного города. Но текст подобных произведений может стать важным материалом для изучения уровня литературной образованности городской элиты. Об актуальности такого исследования говорит тот факт, что эпиграфический материал крайне редко привлекает внимание исследователей литературы, и изучение малоазийской поэзии периода Римской империи ограничивается, как правило, произведениями, вошедшими в «Палатинскую антологию» [3].
Жанр статьи не позволяет нам предпринять рассмотрение всех поэтических надписей, найденных в Термессе, поэтому для анализа будут взяты три произвольно выбранные погребальные надписи, написанные гекзаметром. Задачей исследования является выявление элементов, свидетельствующих об использовании их авторами эллинской литературной традиции, и особенно поэм Гомера.
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ТЕРМЕССЦЕВ
И ИХ АНАЛИЗ
-
1. TAM III.1 268 . Надпись на гробнице семьи Страбониана Аполлония, ок. 205 года [11: 92–93]4: Νανηλις Κβηδασεως, Στράβων Ἀπολλωνίου, Στράβων Ἀπολλωνίου νέος, Στραβωνιανὸς Ἀπολλώνιος, | Τιβ(ερία) Κλ(αυδία) Κίλλη ἡ καὶ Καπετωλεῖνα. |
-
2. TAM III.1 590 . Надпись на гробнице Марина и Оа, до 212 года [11: 99]:
-
3. IGUR III 1204 . Надпись на мраморной стеле, найденной в Риме, сделана термессцем Коно-ном, сыном Гермея, в память о двух его соотечественниках, умерших в Риме: первые шесть строк написаны в гекзаметре от имени первого умер-
- шего – его имя не сохранилось, а был он сыном Орфагора, вторые шесть строк, также в гекзаметре, написаны от имени второго умершего, Гермея, сына Артима, а последняя строка в прозе сообщает имя воздвигшего эту стелу (именно его, судя по всему, и следует считать автором стихотворения), – I–II века [2: 131]:
μητέρι καὶ γενετῆρι φίλῳ ἀέκητά τε παιδὶ οἷ τ’ αὐτῷ γαμετῇ τε μόνοις ὅδε λύσθιος οἶκος, | ἄλλον δ’ οὐκ ἐθέλω δέχθαι νέκυν ἀλλ’ ἀΐοιτε· λώβην ἡμετέρων ῥεθέων ἀπὸ τύμβιον ἴσχειν. | εἰ δέ τις οὐκ ἀλέγοι τεθνηότος, ὧδ’ ἀλιτήμων, ζώει τοι νεκύων, ζώει τειμήορος Ἄτη. |
δυὼ μέν τε Στράβωνε κατὰ χθονὸς ἠδὲ Νανηλις, ἤμασι μυριδίοις Ἀπολλώνιος ἠδέ τε Κίλλη5, –
«Нанелида, дочь Кбедасия, Страбон, сын Аполлония, Страбон младший, сын Аполлония, Страбониан Аполлоний, Тиберия Клавдия Килла, она же Капетолина. Это последний дом только для [моей] матери и отца, и вопреки [моей воли] для милого сына, и для меня самого, и [моей] супруги, а другого мертвеца я допустить [сюда] не желаю, но услышьте: держите осквернение гробниц подальше от наших тел. Если же, возможно, кто-то не заботится о мертвом и настолько нечестив, то жива, несомненно, жива мстящая за мертвых Ата. Два Страбона [уже] под землей и Нанелида, к назначенным судьбой дням [приближаются] Аполлоний и Килла».
Μαρείνῳ πινυτῇ τ’ ἀλόχῳ Οα ἀγλαοπέπλῳ ξοινὸς μὲν βίοτος, ξοινὴ δὲ ἰθεῖα κέλευθος ἔσκε βίου· ξοινὸν δὲ καὶ ἀμφοτέροισι τέτυκται ἠμὲν ἐμοὶ τόδε σῆμα πανύστατον ἠδὲ δάμαρτι, μνηστὸν ἐπεσσομένοισι, σαοφροσύνῃσιν ἀρίστῃ. τῆς δέ τις ὀψιγόνων μεμνήσεται ἠδὲ Μαρείνου. καί ῥ’ ἡ μὲν πείσυράς τε καὶ ἑξήκοντ’ ἐνιαυτοὺς αἰὲν ἄμωμος ἐοῦσα βίου λάχε· τὸν δ’ ἔτι Μοῖρα ὄλβιον ἐν ζωοῖσι μινυνθαδίοισι φυλάσσει ὄκτ’ ἤδη δεκάδας ζωῆς ἀνύοντα ποθεινῆς6, –
«У Марина и [его] благоразумной жены Оа прекрасноодетой общей была жизнь и общим прямой жизненный путь; также и общим для обоих воздвигнуто это последнее пристанище, и для меня, и для супруги, в память грядущим поколениям, [для нее] лучшей в рассудительности. Кто-то из потомков будет помнить о ней и о Марине. И она вот, всегда безупречная, получила по жребию шестьдесят четыре года жизни, а его, счастливого, Мойра все еще охраняет среди недолговечных живых существ, завершающего уже восьмой десяток желанной жизни».
Далее надпись имеет длинное, из 9 строк, прозаическое продолжение, приводить которое в нашу задачу уже не входит.
Τερμησσὸν ναίων Σολύμοις | ἐνὶ κυδαλίμοισι | ἤλυθον ἐς Ῥώμην τρίτος | ἀστῶν κῆρι πιθήσας· | ἀλλὰ θανὼν ἡβῶν συνοδυπόρον | Ἄϊδος ε[ἴ]σω δεύτερον αὖτ’ ἀνέμεινα | [τ]ὸν ἐκ πάτρης ἅμ’ ἰόντα· | [ἀμ]φοῖν δ’ ὀστέα κεῖται | [ὁμοῦ νούσ]οισι καμόντων, | [….]νου Ὀρθαγόρου παιδὸς | [βλο]συροῦ τε Ἑρμαίου. | σο[ὶ δ’ ἐ]γώ, Ὀρθαγόροιο τέκος, | προϊόντι κατ’ αἶσαν | εἰς Ἀΐδαο δόμους συνεφέσπ[ο]μαι | ἠίθεος φώς, | Ἑρμαῖος Ἀρτείμου Σολυ[μηΐ]δος | αὖτ’ ἀπὸ γαί[ας]. | σάρκας μὲν πῦρ νῶ[ιν ἐδαί]σατο, | ὀστὰ δὲ κεύθ[ει] | ἥδε χθὼν πάμφορβο[ς], ἀτὰρ | ψυχαὶ θεόπεμπτοι | οἴχεσθον κατὰ γῆς ἑνὶ δαίμονι | ξυνὰ κέλευθα. |
Κόνων Ἑρμαίου [τ]οῖς φίλο[ις] | μνήμης χάριν7, –
«Жил я в Термессе среди достославных солимов и прибыл,
Сердцу доверившись, в Рим – из сограждан со мной было двое, –
Возраст цветущим мой был, но я умер и в царстве Аида
Спутника также дождался, с кем с родины вместе уехал.
Кости обоих лежат, от болезней скончались мы оба, Сын Орфагора, [Парме]н, и Гермей столь степенный по нраву.
Я за тобой, Орфагора дитя, в дом Аида сошедшим Прежде меня – суждено так, – последовал, муж неженатый,
Чадо Артима, Гермей, из отечества Солимеиды. Плоть нашу выжег огонь, и земля всекормящая кости
В недрах скрывает своих, между тем богоданные души
Общей под землю дорогой спускаются с даймоном тем же.
Конон, сын Гермея, друзьям ради памяти».
Каждая из этих погребальных надписей изобилует гомеровскими словами, то есть словами, которые были использованы в поэмах Гомера и затем сохранялись в эпической литературной традиции: эти слова могут присутствовать у Аполлония Родосского, Ликофрона и в более поздних эпосах, а также в отдельных случаях встречаются в трагедиях и лирике8. В надписи № 1: существительные ὁ νέκυς ‘мертвец’, τὸ ῥέθος ‘член’, pl. ‘тело’, ἡ Ἄτη ‘Ата’, ἡ χθών ‘земля’, τὸ ἦμαρ ‘день’, прилагательные ἀλιτήμων ‘нечестивый’, δοιός ‘двойной’, dual. ‘двое’, местоимение οἷ dat. sg. ‘ему’, глаголы ἀΐω ‘слушать’, ἀπίσχω ‘удерживать’ (вместо ἀπέχω), ἀλέγω ‘заботиться’, ζώω ‘жить’ (в прозе крайне редко, например, у Геродота), наречие ἀέκητα, которое в таком виде больше нигде не засвидетельствовано и явно восходит к гомеровскому предлогу ἀέκητι ‘вопреки’, союз ἠδέ ‘и’. В надписи № 2: существительные ἡ ἄλοχος ‘супруга’, ὁ βίοτος ‘жизнь’, ἡ κέλευθος ‘путь’, ἡ δάμαρ ‘супруга’, ἡ σαοφροσύνη ‘рассудительность’ (в прозе использовалась форма σωφροσύνη), прилагательные πινυτός ‘благоразумный’, ξυνός ‘общий’, πανύστατος ‘последний’ (иногда встречается в прозе), μινυνθάδιος ‘недолговечный’, глагол τεύχω ‘воздвигать’, числительное πίσυρες ‘четыре’, наречие αἰέν ‘всегда’ (вместо ἀεί), союзы ἠμέν … ἠδέ ‘и … и’. В надписи № 3: существительные τὸ κῆρ ‘сердце’, ὁ Ἀΐδης ‘Аид’ (вместо Ἅιδης), ἡ πάτρη ‘родина’, ὁ νοῦσος ‘болезнь’ (вместо νόσος), τὸ τέκος ‘дитя’, ἡ αἶσα ‘судьба’, ὁ δόμος ‘дом’, ὁ φώς ‘мужчина’, ἡ γαῖα ‘земля’ (вместо γῆ), ἡ χθών ‘земля’, τὰ κέλευθα ‘пути’, прилагательные κυδάλιμος ‘славный’, ξυνός ‘общий’, глаголы ναίω ‘населять’, δαίω ‘зажигать’, κεύθω ‘скрывать’, наречие αὖτε ‘опять’, предлоги ἐνί ‘в’, ‘среди’ (вместо ἐν), ἐς ‘в’ (вместо εἰς).
Также весьма внушительным оказывается список слов, которые, присутствуя уже в поэмах Гомера, затем в силу своей употребительности активно функционировали как в поэзии, так и в прозе. В надписи № 1: существительные ἡ μήτηρ ‘мать’, ὁ παῖς ‘сын’, ὁ οἶκος ‘дом’, ἡ λώβη ‘осквернение’, прилагательное φίλος ‘милый’, местоимение ἡμέτερος ‘наш’, глаголы ἐθέλω ‘желать’, θνῄσκω ‘умирать’, наречие ὧδε ‘таким образом’. В надписи № 2: существительные ὁ βίος ‘жизнь’, τὸ σῆμα ‘знак’, ‘гробница’, ὁ ἐνιαυτός ‘год’, ἡ Μοῖρα ‘Мойра’, ἡ δεκάς ‘десяток’, ἡ ζωή ‘жизнь’, прилагательные ἰθύς ‘прямой’, ἄριστος ‘лучший’, ὀψίγονος ‘родившийся позже’, ὄλβιος ‘счастливый’, глаголы μιμνήσκω ‘напоминать’, λαγχάνω ‘получать по жребию’, φυλάσσω ‘охранять’, ἀνύω ‘заканчивать’, числительные ἑξήκοντα ‘шестьдесят’, ὀκτώ ‘восемь’, ἀμφότερος ‘оба’, наречие ἤδη ‘уже’. В надписи № 3: существительные ὁ ἀστός ‘горожанин’, τὸ ὀστέον ‘кость’, ὁ παῖς ‘сын’, ἡ σάρξ ‘плоть’, τὸ πῦρ ‘огонь’, ἡ ψυχή ‘душа’, ὁ δαίμων ‘даймон’, прилагательные βλοσυρός ‘степенный’, ἠίθεος ‘неженатый’, глаголы ἔρχομαι ‘приходить’, πείθω ‘убеждать’, θνῄσκω ‘умирать’, ἡβάω ‘быть во цвете лет’, ἀναμένω ‘ждать’, εἶμι ‘идти’, κεῖμαι ‘лежать’, κάμνω ‘страдать’, οἴχομαι ‘уходить’, числительные τρίτος ‘третий’, δεύτερος ‘второй’, ἄμφω ‘оба’, наречие ἅμα ‘вместе’, предлог εἴσω ‘внутри’. Для подсчета статистических данных мы эту группу не учитываем: все эти слова были слишком распространенными, и их употребление не может свидетельствовать о близком знакомстве с поэмами Гомера.
Интересно отметить, что в надписи № 1 использованы три прилагательных, которые принадлежат послегомеровской поэтической традиции: λοίσθιος ‘последний’, τιμήορος ‘мстящий’ и μοιρίδιος ‘назначенный судьбой’ (встречается также в поздней прозе). В двух других надписях подобных примеров нет. Зато авторы этих двух надписей создали, следуя гомеровским образцам, по одному примечательному неологизму.
В надписи № 2 супруга Марина Оа названа ἀγλαόπεπλος ‘прекрасноодетой’. В литературе это прилагательное встречается только один раз в поэме Квинта Смирнского (XI 240), где выступает эпитетом Фетиды. Автор нашей надписи жил более чем на сто лет раньше Квинта Смирнского, а значит, создал этот эпитет самостоятельно, опираясь на известные из поэм Гомера композиты со вторым компонентом -πεπλος (все они являлись эпитетами женщин): τανύπεπλος ‘одетая в длинное платье’ (Il. III 228, XVIII 385, XVIII 424; Od. IV 305, XII 375, XV 171, XV 363), κροκόπεπλος ‘одетая в платье шафранного цвета’ (Il. VIII 1, XIX 1, XXIII 227, XXIV 695), ἑλκεσίπεπλος ‘одетая в платье, влачащееся по земле’ (Il. VI 442, VII 297, XXII 105) и εὔπεπλος ‘хорошо одетая’ (Il. V 424, VI 372, VI 378, VI 383, XXIV 769; Od. VI 49, XXI 160). Конечно, не следует думать, что автор нашей надписи первым вступил на путь подражания Гомеру. Ко времени его жизни в древнегреческой литературе уже было создано некоторое количество композитов со вторым компонентом -πεπλος: например, κυανόπεπλος ‘одетая в темно-синее или черное платье’, καλλίπεπλος ‘красиво одетая’, λευκόπεπλος ‘одетая в белое платье’, μελάμπεπλος ‘одетая в черное платье’, χρυσόπεπλος ‘одетая в златотканое платье’, – а позже Квинт Смирнский и Нонн Панополитанский еще больше расширили эту группу композитов. Так что наш поэт оказался в русле этого литературного процесса.
Автор надписи № 3 снабдил слово χθών эпитетом πάμφορβος – «всекормящая земля». Помимо рассматриваемой надписи, прилагательное πάμφορβος зафиксировано в одном прорицании без точной датировки (App. Anth. Or. 259, 3) и у Христодора Коптского (AP VII 698, 5), жившего в V–VI веках, то есть значительно позже создания эпитафии. Это дает нам определенные основания допустить вероятность того, что πάμφορβος впервые появилось именно в найденной в Риме надписи. Однако автор эпитафии сочинил этот эпитет не на пустом месте. У Гомера трижды используется почти синонимичное по значению прилагательное πολύφορβος ‘питающая многих’, выступающее устойчивым эпитетом при слове γαῖα ‘земля’ (Il. IX 568, XIV 200, XIV 301), и потом эта формула повторяется в гомеровском гимне к Аполлону Пифийскому (187 (365)). В творческой мастерской автора эпи- тафии формула γαῖα πολύφορβος превратилась в соответствии с метрическими требованиями его стиха в χθὼν πάμφορβος. Против такой подмены будет позже выступать Евстафий Солунский: «правильно πολύφορβος ἡ γῆ, а не πάμφορβος» (Hom. Il. Vol. III, p. 614).
Несмотря на сравнительно небольшие размеры каждой надписи, их авторы не преминули возможностью украсить свои стихи настоящими гомеровскими формулами в их исходном, не-переработанном виде. В надписи № 1 Страбо-ниан Аполлоний говорит, что воздвиг гробницу для «милого сына» – φίλῳ παιδί. У Гомера эта формула в различных вариациях (разные падежи, разный род) встречается 22 раза (Il. I 20, I 447, II 713, VII 44, VII 279, XVI 460, XVI 568, XVIII 147, XX 210, XXIV 619, XXIV 748; Od. I 278, II 197, VII 70, XI 506, XVI 337, XVII 38, XIX 401, XIX 455, XIX 522, XXIV 103, XXIV 345). В предпоследнем стихе сказано, что два Страбона и Нанелида уже находятся «под землей» – κατὰ χθονός. Это выражение встречается в «Илиаде» дважды (Il. III 217, XXIII 100), но на его формульный характер указывает его дальнейшее употребление у Гесиода (Theog. 497; Erga 617; Fr. 204, 141 Merkelbach – West), в гомеровском гимне к Гермесу (68, 410), у Еврипида (14 случаев) и т. д.
Автор гекзаметров из надписи № 2 воспользовался только одной формулой: τις ὀψιγόνων – «кто-то из родившихся позже», расположив, правда, ее в стихе совсем не в тех стопах, в каких она находится у Гомера (Il. III 353, VII 87; Od. I 302, III 200). Больше всего формул присутствует в надписи № 3: Σολύμοις … κυδαλίμοισι – «славным солимам», у Гомера отличается только окончание этнонима: Σολύμοισι … κυδαλίμοισι (Il. VI 184, VI 204); Ἄϊδος εἴσω – «в Аиде», причем это выражение поставлено в исходе стиха точно так же, как и везде у Гомера (Il. III 322, VI 284, VI 422, VII 131, XI 263, XIV 457, XXII 425, XXIV 246; Od. IX 524, XI 150, XI 627, XXIII 252); ὀστέα κεῖται – «кости лежат»: это выражение у Гомера встречается дважды, но расположение по стопам стиха другое (Od. XIV 135, XXIV 76), а затем оно от случая к случаю появляется в прозе, например, у Геродота (III 12) и Павсания (II 21, 4); κατ’ αἶσαν – «в соответствии с судьбой»: у Гомера эта формула часто соединяется с формулой ὑπὲρ αἶσαν – «сверх судьбы», которая, как и в разбираемой эпитафии, может занимать тесис пятой стопы и шестую стопу (Il. III 59, VI 333, X 445, XVII 716, ср. Il. VI 487, XVI 780, XVII 321), позже эту формулу использовали Пиндар (Pyth. IV 107, X 26; Nem. III 16), Вакхилид (X 32) и другие поэты; εἰς Ἀΐδαο δόμους – «в дом Аида»: наш поэт не только прибегнул к этой гомеровской формуле, но и расположил ее, как у Гомера, в первых стопах стиха (Od. X 175, X 491, X 564, XIV 208), интересно отметить, что аналогичная формула εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν – «в доме Аида» занимает у Гомера, за одним исключением, последние стопы стиха (Il. XXII 52, XXIII 19, XXIII 103, XXIII 179; Od. IV 834, XV 350, XX 208, XXIV 264; ср. Od. XXIV 204); последняя формула ἀπὸ γαί[ας] – «из земли» реконструирована издателями неправильно, поскольку в эпической традиции эта формула пишется через эту ἀπὸ γαίης и встречается она именно в таком написании не только у Гомера (Il. VIII 16) и Гесиода (Theog. 715), но и в орфических гимнах (XXIX 17, XXXVI 14, LVI 12) и у более поздних поэтов, причем всегда в исходе стиха.
Здесь следует подчеркнуть, что в самой природе эпических формул заложена возможность заимствования их от поэта к поэту, и, конечно же, авторы трех рассматриваемых стихотворений могли почерпнуть эти формулы не только из «Илиады» и «Одиссеи». Но мы исходим из того, что в эллинском образовании Гомер безоговорочно занимал первое место, и знакомство с другими произведениями древнегреческой литературы предполагало, что ему предшествовало основательное изучение Гомера. Трудно допустить мысль о том, что жители Термесса знали более близкие им по времени сочинения лучше, чем поэмы Гомера.
Перечисляя встречающиеся в этих трех эпитафиях гомеровские формулы, мы также обращали внимание на то, что их создатели нередко заимствовали у Гомера и позицию той или иной формулы внутри стиха. То же самое можно отметить и для отдельных слов. Так, гомеровскую позицию (где-то единственную, где-то один из вариантов) демонстрируют в надписи № 1: μητέρι в 1-й стопе (3 ст.9), ἀέκητι начиная с тесиса 4-й стопы (3 ст.), λώβην (в разных падежах) в 1-й стопе (4 ст.), τεθνηότος (-τα, -τας) в тесисе 3-й и в 4-й стопе (6 ст.), ἀλιτήμων в исходе стиха (2 ст.), ζώει в 1-й стопе (6 ст.), δοιώ в 1-й стопе (2 ст.); в надписи № 2: πινυτῇ (в разных падежах) в тесисе 2-й и арсисе 3-й стопы (3 ст.), ἀλόχῳ в тесисе 3-й и арсисе 4-й стопы (8 ст.), κέλευθος (в разных формах, включая κέλευθα из надписи № 3) в исходе стиха (37 ст.), ἔσκε в 1-й стопе (8 ст.), ἀμφοτέροισι начиная с арсиса 4-й стопы (14 ст.), τέτυκται в исходе стиха (24 ст.), ἠμέν в 1-й стопе (31 ст.), σῆμα в 3-й стопе (16 ст.), πανύστατον (в разных формах) начиная со второго элемента тесиса 3-й стопы (3 ст.), ἠδέ в арсисе и первом элементе тесиса 5-й стопы (десятки раз), δάμαρτι (-τα) в исходе стиха (3 ст.), ἐνιαυτούς в исходе стиха (3 ст.), αἰέν в 1-й стопе (16 ст.), ἐοῦσα начиная со второго элемента тесиса 2-й стопы (8 ст.), λάχε в тесисе 4-й стопы (2 ст.), ὄλβιον (в разных формах) в 1-й стопе (5 ст.), μινυνθαδίοισι (в разных формах) всегда начиная со второго элемента тесиса 4-й стопы (8 ст.), φυλάσσει (-σεις, -σειν) в исходе стиха (8 ст.), ὀκτώ (и его производные) в начале стиха (7 ст.); в надписи № 3: ἤλυθον в 1-й стопе (7 ст.), πιθήσας в исходе стиха (7 ст.), δεύτερον (-ος) в 1-й стопе (19 ст.), ἀνέμεινα начиная с тесиса 2-й стопы (1 ст.), ἰόντα (в разных падежах) в исходе стиха (46 ст.), καμόντων (-ντα, -ντας) только в исходе стиха (5 ст.), φώς в тесисе 6-й стопы (17 ст.), κεύθει (или ἐκεκεύθει) в исходе стиха (2 ст.), οἴχεσθον в 1-й стопе (единственный случай употребления этой формы), δαίμονι в 4-й стопе (2 ст.). Этот обзор позволяет заметить, что автор надписи № 2 почти не пользовался гомеровскими формулами, но зато часто следовал эпическому принципу расположения слова в стихе, в то время как автор надписи № 3 поступал прямо противоположным образом: у него много формул, но превалирует негомеровское расположение слов.
Еще более глубокое знакомство с поэмами Гомера демонстрирует употребление авторами эпитафий эпических грамматических форм. В разговорном языке, которым пользовались в Термессе в период Римской империи, таких форм, несомненно, быть не могло, и в прозаических надписях они не встречаются. Узнать такие формы и понять принцип их функционирования в тексте настолько хорошо, чтобы самим правильно воспользоваться ими при написании стихов, можно было только при последовательном изучении тех произведений, где они были представлены, то есть опять же в первую очередь поэм Гомера. В рассматриваемых стихах таких форм немало. Это две эпические формы gen. sg. по разным склонениям от «Аида» Ἄϊδος и Ἀΐδαο (310); в 1-м склонении gen. sg. πάτρης (3) с этой вместо альфы в позиции после ро и dat. pl. σαοφροσύνῃσιν (2) вместо σωφροσύναις; во 2-м склонении gen. sg. Ὀρθαγόροιο (3) вместо Ὀρθαγόρου, dat. pl. с окончанием -οισι вместо -οις: ἀμφοτέροισι (2), ἐπεσσομένοισι (2), ζωοῖσι (2), μινυνθαδίοισι (2), κυδαλίμοισι (3), νούσοισι (3), – и неслитная форма nom. pl. n. ὀστέα (3); в 3-м склонении dat. sg. μητέρι (1) вместо μητρί и gen. pl. ῥεθέων (1) вместо ῥεθῶν; οἷ (1) – местоимение 3-го лица в dat. sg.; ἔσκε (2) – imperfect. ind. act. 3 sg. от εἰμί вместо ἦν; ἐοῦσα (2) – participium praes. act. nom. sg. f. от εἰμί вместо οὖσα; πιθήσας (3) – причастие эпического сигматического аориста от πείθω nom. sg. m.; λάχε (2) – aor. 2 ind. act. 3 sg. без аугмента вместо ἔλαχε; ἤλυθον (3) – несинкопированный aor. 2 ind. act. 1 sg. вместо ἦλθον; θανών (3) – participium aor. 2 nom. sg. m. без приставки, в прозе ἀποθανών; δέχθαι (1) – инфинитив меди- ального атематического аориста; τεθνηότος (1) – причастие корневого перфекта gen. sg. m. вместо τεθνεῶτος; ἀπὸ … ἴσχειν (1) – приставка в тмесисе; формы двойственного числа: δοιώ (1), Στράβωνε (1), ἀμφοῖν (3), νῶιν (3), οἴχεσθον (3).
Как бы ни стремились авторы этих трех стихотворений создать достойное литературное произведение, они допустили в них отдельные слова и формы, принадлежавшие, вероятно, разговорному языку. Это прилагательные τύμβιον (1) ‘могильный’, ‘касающийся гробницы’ и μνηστόν (2) ‘памятный’, существительное ὀστά (3) ‘кости’ с краткой конечной альфой (что было свойственно позднему эпосу) и неправильная форма пре-зенса συνεφέσπομαι ‘следовать вместе’ вместо συνεφέπομαι, созданная по аналогии с тематическим аористом, скорее всего, metri causa.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предпринятое рассмотрение позволяет сделать весьма показательный статистический подсчет. В изученных эпитафиях в общей сложности (включая все служебные части речи) насчитыва- ется 204 (57 + 67 + 80) слова. Если подсчитать, сколько слов (причем тут будут преимущественно значимые слова, а не частицы, союзы или предлоги) принадлежат эпической традиции, входят в состав формулы или стоят в свойственной эпосу грамматической форме, то получается 89 (27 + 26 + 36) слов. 89 из 204 – это чуть больше 43,6 %. Данный результат доказывает, что образованные жители Термесса обладали весьма серьезным знанием поэм Гомера и черпали из этого неиссякаемого источника эллинского вдохновения слова и выражения для реализации своих творческих амбиций. И хотя исторически «Илиада» и «Одиссея» не принадлежали культуре их предков, этот неудобный факт был если не предан забвению, то задвинут куда-то очень далеко: они были представителями эллинского мира, и принесенный к ним несколько столетий назад Гомер стал для них настолько своим, что они пользовались его формулой даже для своего этнического самовыражения и с гордостью признавали себя именно теми «славными солимами», о которых пел Гомер.
Список литературы Гомер в поэзии потомков «славных солимов»
- Приходько Е. В. «Суровые боги» становятся «Справедливыми богами», или об одном местном культе высокогорий Кибиратиды, Милиады и северной Ликии // Индоевропейское языкознание и классическая филология XXVII (2) (чтения памяти И. М. Тронского): Материалы Междунар. конф., проходившей 26–28 июня 2023 г. / Гл. ред. Н. Н. Казанский. СПб.: ИЛИ РАН, 2023. С. 946–994. DOI: 10.30842/ielcp230690152766
- Arroyo-Quirce H. Glorious Solymi. Homer and a neglected inscription concerning Pisidian Termessos at Rome // Epigraphica Anatolica. 2017. Heft 50. P. 129–132.
- Bowie E. L. Greek poetry in the Antonine age // Antonine literature. Oxford: Clarendon Press, 1990. P. 53–90.
- Deleme n İ. Anatolian rider-gods. A study on stone fi nds from the regions of Lycia, Pisidia, Isauria, Lycaonia, Phrygia, Lydia and Caria in the late Roman period. (Asia Minor Studien 35). Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1999. 228 p.
- Fleischer R. Unbekannte Felsheiligtümer in Termessos // Istanbuler Mitteilungen. 2008. Bd. 58. S. 197–242.
- Horsley G. H. R. Homer in Pisidia: Aspects of the history of Greek education in a remote Roman province // Antichthon. 2000. Vol. 34. P. 46–81.
- İplikçioğlu B. ΘΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ. Die “Gerechten Götter” in zwei neuen Inschriften aus Termessos // Anzeiger der Philosophisch-Historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 2006. Bd. 141.2. S. 5–16.
- Işın G. The sanctuaries and the cult of Apollo in Southern Pisidia // Anadolu / Anatolia. 2014. Bd. 40. P. 87–104.
- Kosmetatou E. The hero Solymos on the coinage of Termessos Major // Schweizerische Numismatische Rundschau. 1997. Bd. 76. P. 41–63.
- Labarre G., Özsait M., Özsait N. Les inscriptions de Yazılı Kanyon // Anatolia Antiqua. 2009. Vol. 17. P. 175–186.
- Merkelbach R., Stauber J. Steinepigramme aus dem Griechischen Osten. Bd. 4. Die Südküste Kleinasiens, Syrien und Palaestina. München; Leipzig: K. G. Saur Verlag, 2002. 471 S.
- Talloen P. Cult in Pisidia. Religious practice in Southwestern Asia Minor from Alexander the Great to the rise of Christianity // Studies in Eastern Mediterranean archaeology 10. Turnhout: Brepols, 2015. 412 p.
- Talloen P. Cult in Pisidia. Religious practice in Southwestern Asia Minor from Alexander the Great to the rise of Christianity // Studies in Eastern Mediterranean archaeology 10. Turnhout: Brepols, 2015. 412 p.