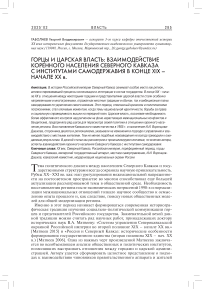Горцы и царская власть: взаимодействие коренного населения Северного Кавказа с институтами самодержавия в конце XIX - начале XX вв.
Автор: Габолаев Г.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В истории Российской империи Северный Кавказ занимает особое место как регион, активно переживавший процессы колонизации и интеграции в состав государства. В конце XIX - начале XX в. отношения между некоторыми горцами и представителями царской власти стали особенно напряженными и многогранными, отражая как местные традиции и обычаи, так и амбициозные планы самодержавия по укреплению своего влияния. Этот период, отмеченный кризисом и политическими потрясениями, стал ключевым моментом, когда темы национальной идентичности, борьбы за права и социальную справедливость вышли на передний план. Царская власть, осознавая необходимость более эффективного контроля над регионом на фоне нарастающих межнациональных конфликтов и бандитизма, предприняла ряд шагов для пересмотра своей политики в отношении коренного населения региона. Восстановление Кавказского наместничества в 1905 г. и назначение И.И. Воронцова-Дашкова, сторонника диалога и регионализма, указывали на изменения в подходе к управлению и взаимодействию с местными жителями. Тем не менее подобные нововведения не всегда приводили к ожидаемым результатам. В данной статье мы рассмотрим и проанализируем ключевые, по мнению автора, аспекты взаимодействия коренного населения Северного Кавказа с институтами самодержавия.
Хх век, северный кавказ, российская империя, пореформенный период, горцы северного кавказа, имперский государственный аппарат, местное самоуправление, и.и. воронцов-дашков, кавказский наместник, модернизация национальных окраин России
Короткий адрес: https://sciup.org/170210329
IDR: 170210329 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-2-285-291
Текст научной статьи Горцы и царская власть: взаимодействие коренного населения Северного Кавказа с институтами самодержавия в конце XIX - начале XX вв.
Т ема политического диалога между населением Северного Кавказа и государственными структурами всегда сохраняла научную привлекательность. Рубеж ХХ–ХХI вв. как этап урегулирования межнациональной напряженности на постсоветском пространстве во многом способствовал еще большей актуализации рассматриваемой темы в общественной среде. Необходимость восстановления региона после экономических потрясений 1990-х и нормализации межнациональных отношений толкало научное сообщество к осмыслению опыта прошлого и, как следствие, поиску новых общественных моделей для общей модернизации региона.
Именно в этот период начинает формироваться современная историографическая традиция изучения социально-политической коммуникации горцев и представителей Российского государства. Знаменательной вехой данной традиции можно считать ряд научных работ, принадлежащих доктору исторических наук В.А. Матвееву: «Система управления Северокавказской окраиной Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв.» [Матвеев 2015] и «Россия и Северный Кавказ: исторические особенности формирования государственного единства (вторая половина XIX – нач. XX в.) [Матвеев 2006]. Одна из важных черт произведений Матвеева заключается во всеобъемлющем анализе общественных и политических институтов, позволявших выстраивать отношения между горцами и царской администрацией. Автору удается сформировать целостное представление о подходах к взаимодействию чиновников правительственного аппарата и жителей
Северного Кавказа как к определенной системе сдержек и противовесов. В то же время в работах специалиста присутствует нарочито подчеркнутый позитивный взгляд на политику Российской империи. Аналогичной позиции придерживается в своей статье и доктор исторических наук Е.С. Шавлохова [Шавлохова 2015].
Диаметрально противоположное мнение представлено в масштабной монографии «Северный Кавказ в составе Российской империи». При признании успешности отдельных экономических преобразований, осуществляемых в тот период времени, в повествовании акцентируется внимание на негативном эффекте политики русификации [Северный Кавказ 2007: 270-273] , феномене мухаджирства, а также на напряженных отношениях царских чиновников с представителями мусульманского духовенства [Северный Кавказ 2007: 260261]. Колонизационную специфику политики царской власти по отношению к народам Северного Кавказа усматривает и исследователь К.Н. Мазанаев [Мазанаев 2020: 428].
Более сдержанный критический взгляд на основные управленческие проблемы края в начале ХХ в. представляет в своей работе кандидат исторических наук А.Т. Урушадзе. Обходя более спорные вопросы и сюжеты, касающиеся отношений русского монархизма и горского населения, автор разбирает основные подходы царской администрации к осуществлению управленческих задач и их недостатки. Он констатирует, что «централизация административных практик затормозила интеграцию Кавказа в пространство империи», а нерешенность некоторых противоречий модернизации лишь реанимировала конфликтный потенциал [Урушадзе 2015: 155].
Некоторые аспекты государственно-правовых отношений в вышеназванном регионе исследуются в работе профессора С.Р. Чеджемова. Автор полагает, что в целом здесь царили больше договорные, чем императивные отношения [Чеджемов 2022].
Действительно, отношения царской власти и горцев Северного Кавказа во все времена носили непростой характер. Горские народности, имея собственную разветвленную систему кланов, неоднозначно оценивали растущее российское влияние в регионе. С одной стороны, некоторая часть коренного населения усматривала в новом сильном соседе возможность улучшить свое социально-материальное положение и разобраться с враждебным окружением, с другой – еще большая часть горцев воспринимала Российскую империю как врага, попиравшего их обычаи и культуру. Так или иначе история знает множество случаев как сотрудничества, так и противостояния русской монархи и местного населения Северного Кавказа еще со времен Петра I (1682–1725). По мере расширения влияния за Кавказский хребет и столкновения с интересами соседних держав (Османская империя, Персия, Великобритания) в XIX в. перед Российской империей встал вопрос обеспечения сохранности своих границ, что, в свою очередь, зависело от доверительных отношений с местным населением. Рубеж XIX–XX вв. ознаменовался для горских народностей Северного Кавказа масштабными переменами, в первую очередь подавлением местного национального движения, которое началось в ходе продолжительной Кавказской войны (1817–1864 гг.), ставшей, в свою очередь, финальной стадией формирования границ Российского государства. Вторым фактором, определившим дальнейшее преобразование региона, становится формирование системы органов местной власти и постепенная интеграция северокавказского населения в культурное и экономическое поле империи [Матвеев 2010: 122].
Важным шагом в реализации вышеупомянутых целей стала реформа административного устройства края. Так, в 1860 г. Дербентская губерния была переформирована в Дагестанскую область. В соответствии с Положением об управлении Дагестанской областью и Закатальским округом от 7 апреля 1860 г. управление субъекта разделялось на военную и гражданскую модели, причем военное управление делилось на еще три части: собственное, или управление войсками, управление туземными племенами на особых правах и управление ханское. Вышеупомянутые структуры находились в ведении начальника области. Административно-территориальное устройство субъекта включало в себя 9 округов: Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Самурский и Темир-Хан-Шуринский. Территориальное устройство Терской области было во многом зеркальным и включало семь округов: Аргунский, Веденский, Владикавказский, Георгиевский, Грозненский, Кизлярский, Хасав-Юртовский [Димаева, Демелханов 2019: 25].
Почти вся территория, за исключением Ставропольской губернии, до 1883 г. находилась в ведении кавказского наместничества, замененного кавказской администрацией. Для осуществления управленческих задач в регионе применялись две модели управления: военно-народная (до 1888 г.) и общегубернская. Революция 1905 г. и общий рост преступности вынудили центральное правительство вернуться к наместнической форме управления [Матвеев 2010: 22-23]. Стоит также подчеркнуть, что ликвидация института наместничества на Кавказе представляла собой общую тенденцию укрепления самодержавной власти на окраинах, которая, в свою очередь, являлась частью контрреформаторской политики Александра III (1881–1894) [Тумаков 2010: 29].
Связующим звеном в системе взаимоотношений между горскими народностями и чиновниками царской администрации были сельские старейшины (или, как их еще называли, старшины) [Прокудин: 2012], которые назначались губернатором. Так было во всех субъектах северокавказского края за исключением Кубанской области, где старшины избирались на сельских сходах. Можно предположить, что подобное отступление от общих правил обусловлено проживанием в пределах области значительного числа представителей адыго-черкесского населения, известного особенно сильным сопротивлением в годы Кавказской войны и склонного к противоправным действиям [Северный Кавказ… 2010: 214]. Старейшины (старшины) имели широкий функционал, направленный на поддержание порядка на вверенной территории, а также мониторинг социальной обстановки внутри определенной общины. На рассматриваемую должность губернатор отбирал исключительно представителей местной знати, отличавшихся лояльностью. В контексте общероссийского социума старейшины имели привилегированный статус. В частности, лицо, занимавшее данную должность, находилось под охраной государства в соответствии с Уложением о наказаниях 1845 года, причем наказание могло последовать за пренебрежительное выражение в адрес этого должностного лица. Об этом свидетельствует судебное разбирательство, имевшее место 17 ноября 1903 г., над жителями села Батако-юрт Владикавказского округа, обвиненных в противоправных действиях по отношению к сельскому старшине1. Можно еще предположить, что описанный инцидент свидетельствует о существенном расколе внутри горского обще- ства, вызванном привилегированным положением определенной группы местного населения.
Важным элементом взаимодействия горцев и институтов царской власти являлась судебная система. Несмотря на прослеживающиеся тенденции к интеграции, она изначально имела раздельное действие и собственную специфику в зависимости от субъекта. В соответствии с данными веяниями 30 декабря 1869 г. в Кубанской области вступили в силу судебные уставы от 20 ноября 1864 г., распространявшиеся только на русское население. Позднее, 18 декабря 1870 г., при участии наместника Кавказа великого князя Михаила Николаевича были приняты Временные правила для горских словесных судов, касающиеся горского населения и подлежащие применению в новых судебных органах [Гладунец 2009: 96]. На их основе, в свою очередь, формируется новая градационная структура судебных органов в виде областных, окружных, сельских (аульных) и третейских судов [Арсанукаева, Халифаева, Джалилов 2013]. При этом судебная власть наделялась особым статусом, отдельным от военной и административной ветвей [Гладунец 2009: 96].
Внутри горского социума испокон веков действовали локальные судебные структуры, в основе которых лежали адаты (нормы традиционного права [Урушадзе 2019: 915]. В конце ХIХ в., после завершения Кавказской войны начинается процесс интеграции судебных структур коренных жителей в общеимперскую судебную систему. Рассматриваемая тенденция проявилась в учреждении в 1888 г. должности переводчиков для ведения судопроизводственных процессов среди горского населения. В ходе судебного процесса в случае участия в заседании представителей мусульманского вероисповедания использовалась практика толкования действий участников процесса с точки зрения ислама и допускалось применение норм шариата, равно как и адатов. Обязательными участниками слушаний были исламские служители и переводчик с арабского языка [Арсанукаева, Халифаева, Джалилов 2013: 6-7].
Формируемая система судопроизводства в значительной мере выглядела монолитной и способной отражать интересы как государства в целом, так и горского населения в частности. Однако в практическом плане она оказалась несовершенной по причине неполной интеграции горского населения в культурное поле Российской империи, недостатка кадров и недальновидности чиновничьего аппарата. Дополнительным дискредитирующим фактором стала процветающая коррупция в судебных органах. Сохранение вышеуказанных факторов в системе управления регионом привело к печальным последствиям, которые стали серьезными испытаниями в судьбе Северного Кавказа.
Разразившийся кризис 1905–1907 гг. подтолкнул царское руководство к переосмыслению подходов к управлению Кавказом. Существовавшая централизованная система управления регионом не позволяла правительству оперативно реагировать на нарастающее межнациональное напряжение и бандитизм. В этих условиях царская администрация приняла важное решение – 25 февраля 1905 г. было восстановлено кавказское наместничество. На должность главы ведомства был назначен приближенный Николая II И.И. Воронцов-Дашков. Он придерживался идей регионализма и настаивал на необходимости более тесного взаимодействия с местным населением. В своих записях Иван Илларионович отмечал, что «опыт централизации из Санкт Петербурга с учреждением… генерал-губернаторства дал довольно печальные результаты… деятельность ведомств, не поставленных в прямую связь с деятельностью главенствующих, совершенно отклонилась от соображений с местными условиями» [Северный Кавказ… 2010: 217].
Для повышения авторитета центральной власти в глазах горцев по настоянию наместника в состав ведомства были введены многие представители коренного населения. Общий чиновничий аппарат был обновлен за счет принятия новых кадров. На уровне правительства Воронцов считал необходимым встроить наместничество в работу Совета министров [Дарчиева 2018: 75], а также дать возможность иметь своего председателя в Совете [Рахманин, Пляскин 2013: 91]. Для предотвращения межнациональной розни по инициативе наместника в 1906–1907 гг. были проведены примирительные съезды населения с участием служителей духовенства [Матиев 2011].
В современной историографии (В.А. Матвеев, Е.С. Шавлохова, С.В. Дарчиева, Н.Т. Рахманин, А.Т. Урушадзе) деятельность Воронцова-Дашкова воспринимается как комплекс мер, соответствующий духу времени и способный урегулировать накопившиеся противоречия. Данная точка зрения игнорирует ряд негативных тенденций в деятельности наместника, а именно:
-
1) при вовлечении горцев в структуру наместничества сохранялся сословный принцип, при котором наиболее значимые должности получали представители знати [Очерки истории… 2014: 47];
-
2) попытки примирения местного населения в ходе революционных событий 1905–1907 гг. отчасти реабилитировали центральную власть в глазах горцев, но не могли в долгосрочной перспективе нормализовать отношения между народами;
-
3) ограниченное реформирование аграрного сектора при сохранении системы оброков внутри горских общин.
Вполне обоснованной причиной провала попыток реформ в СевероКавказском регионе выглядит наличие оппозиции в правительстве страны, в составе которой оказался председатель Совета министров П.А. Столыпин [Соколов 2017: 43-45], а также опасения роста недовольства со стороны горской знати. В то же время нужно понимать, что Северный Кавказа был далеко не самым главным полем деятельности наместника. Куда более значимые перемены происходили в южной части Кавказского хребта.
В заключение исследования необходимо отметить, что к началу ХХ в. отношения горцев Северного Кавказа и русского самодержавия демонстрировали значительную эволюцию. В то же время нельзя исключать и вынужденный характер преобразований, которые предпринимались со стороны царской власти для усовершенствования коммуникации с горскими народностями.
Анализируя растущую капитализацию экономики края и общественных институтов автохтонного населения, а также следовавшие за этим социальные противоречия, правительственные чиновники осознавали неизбежность перемен. В то же время они были к ним не готовы, т.е. не смогли выработать концепцию осуществления перемен. Не готова была и местная аристократия, усматривавшая в происходящих изменениях посягательство на собственные интересы.
Сформировавшаяся общественно-политическая ситуация в условиях активной политизации общества в 1910-х гг. способствовала созданию в регионе условий для возникновения серьезного социально-политического кризиса.