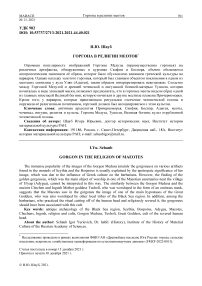Горгона в религии меотов
Автор: Шауб И.Ю.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Религиоведение
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Огромная популярность изображений Горгоны Медузы (преимущественно горгонея) на различных артефактах, обнаруженных в курганах Скифии и Боспора, обычно объясняется апотропеическим значением её образа, которое было обусловлено влиянием греческой культуры на варваров. Однако находку золотого горгонея, который был главным объектом поклонения в одном из меотских святилищ у аула Уляп (Адыгея), таким образом интерпретировать невозможно. Сходство между Горгоной Медузой и древней чеченской и ингушской богиней-матерью Тушоли, которая почиталась в виде зловещей маски, позволяет предполагать, что в горгонее меоты видели образ одной из главных ипостасей Великой богини, которую почитали и другие местные племена Причерноморья. Кроме того, у варваров, которые практиковали ритуальное отсечение человеческой головы и окружали её религиозным почитанием, горгоней должен был ассоциироваться с этим культом.
Античная археология причерноморья, скифия, боспор, адыгея, меоты, чеченцы, ингуши, религия и культы, горгона медуза, тушоли, великая богиня, культ отрубленной человеческой головы
Короткий адрес: https://sciup.org/14123582
IDR: 14123582 | УДК: 902
Текст научной статьи Горгона в религии меотов
Самым распространённым греческим мотивом на различных артефактах, обнаруженных в курганах Скифии (Раевский 1985: 173) и Боспора (Цветаева 1968: 4) является изображение Горгоны Медузы (чаще всего в виде её головы — горгонея)1; не редок этот мотив и на Кавказе (Авалиани 2012). У меотов горгоней пользовался столь большой популярностью, что, к примеру, головной убор жрицы2, погребенной в кургане Карагодеуашх, украшали 50 золотых бляшек с изображением головы Горгоны Медузы (Лаппо-Данилевский, Мальмберг 1894: 32—33, 160), а в кургане Курджипс было найдено 29 терракотовых позолоченных имитаций горгонеев (Галанина 1980: 88)3. Подобные терракотовые горгонеи часто встречаются и на других меотских памятниках; более всего их было найдено в погребениях (Малышев 1992) и в святилищах (Erlikh 2011; Эрлих 2012). Особое внимание среди изображений Горгоны Медузы, найденных на территории, где обитали меоты, привлекает к себе золотой горгоней, который был главным объектом поклонения в святилище, обнаруженном в кургане № 5 у аула Уляп (Адыгея). Вот описание этого священного предмета: «Бляха (возможно, налобник) в виде диска из листового золота с прочеканенным лицом Медузы Горгоны. Изображение слегка помято. Лицо круглое, с пухлыми щеками, глаза расширены, рот оскален, на голове крупными прядями развеваются волосы. По краям диска размещено шесть небольших отверстий с продетыми сквозь них серебряными проволочками. Этими проволочками-заклепками диск крепился к серебряной плоской рамке с двумя небольшими выступами по бокам. Между рамкой и диском был проложен кусок кожи (сохранился кожаный тлен) <...> Диаметр 5,9 см» (Лесков и др. 2013: 48, № 116, рис. 28: 14 ) (рис. 1: а, б ).
Эта бляха была прикреплена к столбу, который находился «в самом сакральном центре сооружения» (Лесков и др. 2013: 89). Поскольку курган № 5 датируется временем в пределах первой половины IV в. до н.э., именно здесь мы имеем наиболее раннее проявление меотского ритуала, в котором главную роль играет особое почитание изображения Медузы Горгоны (Лесков и др. 2013: 89). Думается, что отнюдь не случайно в том же святилище кургана № 5 были найдены золотые бляшки с изображением головы Медузы (Лесков и др. 2013: 45, № 95—6; 46, № 96—8), а также крупные стеклянные бусины с «масками— личинами», весьма напоминающими горгонеи (Лесков и др. 2013: 45, № 93; 48, № 117).
Со второй половины IV в. до н.э. в погребальных и ритуальных сооружениях меотской культуры начинают встречаться керамические горгонеи. «Большинство их имеет на лицевой стороне рельефное изображение Медузы Горгоны как с высунутым языком, так и без него. По ободку проходит линия жемчужника, а обратная сторона имеет два отверстия, куда вставлялась тонкая бронзовая проволочка, служившая для подвески» (Лесков и др. 2013: 89). В Прикубанье известно уже более 20 мест находок подобных медальонов раннеэллинистического времени, причем, как уже упоминалось выше, значительная их часть
МАИАСП № 13. 2021
происходит из святилищ. По мнению В.Р. Эрлиха, медальоны с изображением Медузы привозились на Кубань из Северной Греции, где позолоченная терракота в раннеэллинистический период изготавливалась специально для погребений. Однако «разнообразие штампов может указывать на то, что центров производства было несколько» (Малышев 1992: 51). Вероятно, отнюдь не случаен тот факт, что в Греции известны только единичные случаи находки медальонов в виде горгонеев в святилищах (Лесков и др. 2013: 89).
О популярности культовой роли горгонеев у меотов говорит тот факт, что после прекращения их поставок из Северной Греции в III в. до н.э. на Кубани начинают изготавливать местные подражания керамическим дискам с изображением Горгоны. Эти медальоны изготовлены из глины худшего качества с крупными включениями, штамп всегда нечеткий, на обороте уже нет отверстий для петли, что исключает их использование в ожерельях (Erlikh 2011: 113 след, рис. 9: 1—8 ). Публикаторы результатов своих раскопок закубанских святилищ признаются, что «не в состоянии объяснить на базе имеющихся в настоящее время данных популярность образа Медузы у меотов и его частое использование на Кубани в ритуальной практике». Они лишь замечают, что использование керамических горгонеев «служит отличительным признаком меотской ритуальной и погребальной практики от скифской» (Лесков и др. 2013: 89)4.
На вопрос о причине популярности образа Медузы у меотов и его частом использовании в их ритуальной практике попыталась ответить Е.А. Беглова, которая в «почитании в меотских ритуалах культа Горгоны Медузы» видит «следы греческого влияния». В то же время она допускает, что культ этого божества, образ которого «воплощал в себе страх и смерть», «был адаптирован к местным представлениям о заупокойном мире, к существовавшему воинскому ритуалу, основной целью которого было устрашение врагов и темных загробных сил» (Беглова и др. 2014: 43). Что касается тезиса о распространении горгонеев в меотской среде под влиянием греческого культа Медузы, то в эпоху начала контактов меотов с греками у последних он уже едва ли существовал. В то же время, мысль об адаптации её образа и связанных с ней мифологических представлений к местным верованиям сомнений не вызывает (Раевский 1985: 173; Шауб 1992; 1999 и др.). Для того чтобы попытаться разобраться в Характере этих местных верований и ритуалов, стоит вспомнить некоторые наши мысли об особенностях мировидения других причерноморских варваров — скифов. Характерный для их искусства принцип соединения в одном образе черт противоположных по своей сути живых существ («зооморфные превращения»)5, напоминает (естественно, mutatis mutandum) китайскую концепцию инь-ян6. Это сходство (кроме самого принципа динамического сочетания противоположностей) мы усматриваем и в свойственной обоим феноменам экспрессии, и в их шаманистической подоснове, и в характерной для них обоих связью с экстатическими культами и ритуальной переменой пола. И подобно тому, как в даосизме, сохранившем многое из древних верований и аграрных культов, принцип инь-ян, который основывается на представлении о мире как взаимном сопряжении противоположных сущностей, кристаллизовался в знаменитом знаке, у скифов подобная
МАИАСП № 13. 2021
интуиция, вероятно, нашла отражение и в системе «зооморфных превращений», и в изображениях сцен терзания, и в монструозных образах (Шауб 2017). Многое сказанное о скифах можно смело отнести и к явно близким к ним по менталитету меотам, которых в образе Горгоны Медузы, судя по всему, привлекло совмещение таких противоположных начал, как тёмное и светлое, женское и мужское, воинственность и материнство7.
Нужно сказать, что образ Горгоны Медузы в верованиях причерноморских варваров был тесно связан с образом змееногой богини8 — наиболее оригинально и ярко представленном на золотых бляшках из кургана Куль-Оба (Шауб 2007: рис. 14). Тот факт, что аналогичный сюжет — змееногая богиня с ножом в правой руке и отрубленной головой сатира в левой — фигурирует на золотой пластине из кургана у станицы Ивановской (Шауб 2007: рис. 19), который находится на территории, где обитали меоты, свидетельствует об их знакомстве с образом этого божества9. М.И. Ростовцев предположил, что источником происхождения иконографии змееногой богини является древний ионийский мотив Медузы (Rostovtzeff 1922: 108). Это совершенно правильно, т.к. в античном искусстве антропоморфному змееногому персонажу предшествует именно змееногая Горгона, которая представлена на ряде ручек бронзовых позднеархаических кратеров (Шауб 2007: рис. 12), а на о. Крит получеловеческий—полузмеиный персонаж до сих пор называется «Горгоной» (Gimbutas 1989: 132). В то же время М. И. Ростовцев (Ростовцев 1925: 382), как и подавляющее большинство других исследователей прошлого и настоящего, объяснял исключительную популярность горгонеев в Скифии (а также на Боспоре) лишь тем апотропеическим значением, которое приписывалось им в Греции; из последних работ см., например: (Русяева 2002; Дувакин 2009, Скржинская 2010: 202—205; Рахно 2019).
Действительно, представление о том, что всё странное, чужое, непонятное, а тем более пугающее, служит знаком скрытых сил, является характерной особенностью человеческой психики. «Всё… чудовищное становится вместилищем магико-религиозных сил и, в зависимости от обстоятельств, предметом поклонения или страха», — справедливо отмечает М. Элиаде (Элиаде 1999: 28—29)10. Однако этого объяснения отнюдь не достаточно для понимения глубинных пластов чрезвычайно сложного образа Горгоны Медузы11, которая, в полном соответствии со своим именем «Владычица», первоначально сама являлась ипостасью Великой богини (Frothingham 1911: 349 след.; 1922; Marinatos 1927—1928: 7 след.; Christou 1968: 147) — владычицей жизни и смерти (Шауб 1992; 1999; 2007; 2008; 2011; 2014).
Совсем недавно исследование интересующего нас образа в аналогичном ключе предприняла О.А. Золотникова (Zolotnikova 2016). При этом она опиралась на исследование Артура Л. Фротингема (Frothingham 1911: 349 след.), который утверждал, что Горгона была древней Критской и, шире, — Эгейской, богиней дикой природы, плодородия и рождения, а также покровительницей детей и женщин; при этом она имела примитивную устрашающую наружность. В начале исторического периода она была замещена Артемидой и попала в услужение к Афине12 и Зевсу (Zolotnikova 2016: 359).
МАИАСП № 13. 2021
Проанализировав богатые материалы Великой Греции (другие области греческой колонизационной деятельности остались вне её поля зрения), О.А. Золотникова пришла к выводу, что жители этой области «дольше, усерднее и преданнее сохраняли в своих религиозных верованиях образ Горгоны в той форме, в которой он существовал в материковой Греции в начале исторического периода и в которой он был перенесен в Италию первыми колонистами. Это вполне понятно: вынужденные жить отдельно от своей метрополии, греки— колонисты особенно настойчиво соблюдали и сохраняли религиозные традиции своей родины такими, какими они были в момент основания колоний. Поэтому в Великой Греции Горгона как богиня, изначально имевшая две природы и две стороны — добрую и злую, красивую и ужасную, соответственно — оставалась такой в течение всего архаического периода, а в материковой Греции религиозные представления, стремительно изменяясь, привели к финальной дифференциации между Олимпийской гармонией и красотой и примитивной доолимпийской дикостью и грубостью» (Zolotnikova 2016: 365—366).
По словам исследовательницы, в религиозной образности Западной Греции Горгона в качестве древней богини природы и покровительницы всего живого никогда полностью не теряла свое доброе и красивое обличье и никогда не воспринималась только как монстр в такой степени, как это произошло в религиозных представлениях материковой Греции в середине архаического периода.
Возможно, сохранению жившими в Италии греками образа Горгоны в первоначальной форме способствовало почитание, которым она была окружена у этрусков. Северные соседи греков в Италии устойчиво поклонялись Горгоне как покровительнице жизни; вероятно, полагает О.А. Золотникова, именно они одними из первых изобразили Горгон как привлекательных женщин уже в третьей четверти VI в. до н.э. (Zolotnikova 2016: 366)
Учитывая приведённые выше соображения, есть все основания полагать, что и в Северном Причерноморье происходила подобная консервация в образе Горгоны её архаических черт. Это должно было способствовать восприятию меотами образа Горгоны как одного из главных воплощений Великой богини, которую почитали и другие местные племена Причерноморья (Шауб 1999 и др.). О том, что Горгона в этой ипостаси, выступая в обличье Владычицы зверей, была известна в варварской среде, может свидетельствовать её изображение на золотой пластине — украшении деревянного сосуда (?) из разграбленного погребения кургана Шахан, или Семиколенный, близ станицы Тульской Майкопского района (Бессонова 1983: 86, рис. 9: 2 ), а также на серебряном ритоне из Келермесса (Шауб 2007: рис. 6)13. На Боспоре великолепно исполненное изображение Горгоны со змеями в руках (т.е. в аспекте Владычицы змей) представлено на инталии начала V в. до н.э., найденной в одной из из пантикапейских могил (Шауб 2007: рис. 18).
Кроме того, у варваров, которые практиковали ритуальное отсечение человеческой головы и окружали её религиозным почитанием (Шауб 1987: 16; 2007; 2011: 118—120; Лесков и др. 2013: 77), горгоней должен был ассоциироваться с этим культом14. О широком
МАИАСП № 13. 2021
распространении этой практики у меотов свидетельствуют как памятники изобразительного искусства (золотой колпачок из Курджипса, пластина из Зубова кургана и др.) (Шауб 2007: рис. 24, 31), так и отрубленные головы, найденные в их святилищах и ритуальных комплексах (см., например: (Лесков и др. 2013: 58, 68, 69, 73, 77, 79 и др.))15. В связи с этими фактами нужно отметить, что, согласно логике мифологического мышления, Медуза («Владычица») до того, как стать объектом декапитации со стороны героя Персея, должна была сама мыслиться способной обезглавливать и, соответственно, в качестве покровительницы подобных ритуалов.
Вполне вероятно, что популярности изображений горгонеев в Скифии могла способствовать и вера в существование здесь женщин, могущих убивать взглядом (Plin. Nat. Hist. VII., 17), что имеет несомненное сходство с греческими представлениями о Горгоне, взгляд которой убивает (или превращает в камень).
Описывая этих женщин, Плиний сообщает, что они отличаются двойным зрачком в одном глазу16 и образом коня в другом. В связи с этим нужно вспомнить, что Медуза Горгона иногда изображалась с лошадиным телом, а также считалась матерью крылатого коня Пегаса, родившегося от Посейдона, который принял обличье коня. К рассказу Плиния интересную деталь добавляет Солин: эти женщины губят своим взглядом, если случайно на кого-нибудь посмотрят в гневе (Solin., I, 101).
Эти рассуждения отнюдь не противоречат тому, что в Северном Причерноморье, как и в метрополии, греки видели в изображении Горгоны могучий апотропей, но не столько в силу его устрашающего облика (который в IV в. до н.э. уже не был таковым), а потому, что в нем сохранялась сакральная мощь могучего древнего божества (подробнее см: Шауб 2010: 13— 14, прим. 61, 62).
Параллели с греческой Горгоной Медузой можно найти в мифологиях и на памятниках изобразительного искусства по всему миру (см., например: Гусева 1977: 139; Smith 1926; Wilk 2000: 55 след.). Однако представляется отнюдь не случайным разительное сходство между нею и богиней-матерью Тушоли — одним из наиболее почитавшихся божеств у кавказцев, особенно у чеченцев и ингушей (Цароева 2012)17. По словам В.Б. Виноградова, популярность этой древней богини плодородия и урожая, культ которой существовал до конца XIX в., выходила далеко за пределы Чечни и Ингушетии, «так как до недавнего времени она почиталась и хевсурами, тушинами, а в древности, конечно, и еще более широким кругом близкородственных кавказских племен» (Виноградов 1966: 86).
Тушоли — единственное горское божество, у которого было антропоморфное изображение в виде деревянного идола с женской маской на нем. Тушоли так и называлась у чеченцев и ингушей — «даьла юхъ Тушоли», т.е. «божий лик (образ) Тушоли» (Виноградов 1966: 86). Самый интересный и важный объект её культа — металлическая пластина в виде полумаски, служившая «лицом» идола Тушоли — была найдена Е.С. Шиллингом (Шиллинг 1931: 33) (рис. 2)18. Графическое изображение на лбу маски напоминает статую Тушоли (рис. 3), представленную одновременно в прямом и перевёрнутом виде. Знаток ингушской
МАИАСП № 13. 2021
этнографии Д.Д. Мальсагов так описывает один из обрядов, совершаемых в честь Тушоли: «Из святилища в селении Ког весной в праздник Тушоли жрец (ціена саг) выносил к народу деревянный идол Тушоли с железной маской на лице. Народ в ужасе падал ниц, не смея взглянуть на богиню» (цит. по: Виноградов 1966: 86; выделено нами — И.Ш.).
«Разрушенные временем деревянные идолы богини уступали место новым. Не раз заменялись и металлические маски. Но каждый новый божий лик Тушоли обязательно передавал суровое и печальное выражение лица богини, соответствующее содержанию окружавших ее суеверий», — пишет В.Б. Виноградов, отмечая: «Рождение культа богини плодородия Тушоли уходит в глубокую древность, и бытование его в VIII—VI вв. до н.э., когда была отлита бронзовая маска женского божества, отнюдь не представляется неожиданным» (Виноградов 1966: 87). Речь идёт о культовой бронзовой маске VIII—VI вв. до н.э. из селения Нар. Л.П. Семенов, сравнив её с одной из позднейших масок Тушоли и ее деревянным идолом, указал на очевидное стилистическое и композиционное сходство обоих изображений женских лиц. «И сходство это, конечно, не случайно — за ним скрывается тождество объектов почитания», — комментирует В.Б. Виноградов (Виноградов 1966: 87).
Таким образом, культ, основным объектом которого была металлическая маска, присоединённая к деревянной основе, очень схож с тем, который зафиксирован в меотском святилище в кургане № 5 у аула Уляп. Почитание Тушоли прослеживается до VIII—VI вв. до н.э., т.е. восходит ко времени формирования меотской культуры. Причём аналогия между обоими культами заключается не только в маске как главной черте облика как Горгоны, так и Тушоли, но и в той опасности, которая исходила от их лицезрения. Кроме того, атрибутами и того, и другого божества были змеи19.
Итак, исследование памятников с изображениями Горгоны Медузы, которые были найдены на территории, где обитали меоты, показывает, что авторитетное в научной литературе мнение о сохранении чисто греческого характера этого образа у варваров и его непременной связи с сюжетами эллинской мифологии (Скржинская 2010: 202—205), явно несостоятельно. Значение образа Горгоны Медузы в религиозно-мифологических представлениях меотов (а также других варваров, живших на Боспоре) существенно отличалось от той роли, которую он играл в Греции эпохи классики и эллинизма (см., например: Krauskopf 1988: 285 след.; Wilk 2000). Несомненное наличие у меотов культа, в котором главную роль играли горгонеи, а также сходство образа Горгоны Медузы и религиозно-мифологических представлений о ней с образом и особенностями почитания Великой кавказской богини-матери Тушоли, свидетельствует об адаптации греческого образа к местным верованиям.
Эти факты являются важным дополнительным аргументом в пользу уже давно выдвинутой нами гипотезы о том, что обитавшие в Северном Причерноморье варвары видели в Горгоне Медузе одну из ипостасей своей Великой богини (Шауб 1992; 1999 и др.). В связи с этим нужно отметить, что, если единственным антропоморфным образом, пленившим воображение меотов, обитавших близ современного аула Уляп, был образ Горгоны Медузы20, который меотские мастера даже пытались копировать21, то в одном из Тенгинских святилищ наряду с горгонеями зафиксированы терракотовые изображения
МАИАСП № 13. 2021
рогатой Ио (Эрлих 2002: 234, рис. 1, 20)22 — ещё одной наследницы образа Великой богини Эгеиды (Шауб 2020)23.
Будем надеяться, что наше небольшое исследование позволит несколько расширить крайне скудные представления о религиозной жизни меотов24.
Список литературы Горгона в религии меотов
- Авалиани Э. 2012. Монстры эллинского мифа и их периферийные варианты. ЕХОЛИ. Философское антиковедение и классическая традиция. Вып. 6. № 2, 306—322.
- Акиева П.Х. 2017. Архетипическое в этнокультуре ингушей (на материале мифологии, нартского эпоса и обрядов жизненного цикла). Автореф. дисс... докт. ист. наук. Махачкала: Дагестанский научный центр РАН.
- Андерсен В.В. 2007. Мифологические основы предания о лидийском царе Гиге. Новый Гермес I, 10— 16.
- Беглова и др. 2014: Беглова Е.А., Габуев Т.А., Ксенофонтова И.В., Носкова Л.М. 2014. Археология Северного Кавказа. Путеводитель по «Особой кладовой. Археология». Москва: Государственный Музей Востока.
- Бессонова С.С. 1983. Религиозные представления скифов. Киев: Наукова думка. Виноградов В.Б. 1966. Тайны минувших времен. Москва: Наука.
- Галанина Л.К. 1980. Курджипский курган. Ленинград: Искусство. Гусева Н.Р. 1977. Индуизм. Москва: Наука.
- Дувакин Е.Н. 2009. Голова Медузы Горгоны: семантика апотропея. Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология 9, 97—104.
- Захаров А.А. 1934-1935. Ингушская богиня Тушоли и Dea Sуria Лукиана. Известия Ингушского научно-исследовательского института краеведения VI.2, 118—128.
- Канторович А.Р. 2002. Классификация и типология элементов «зооморфных превращений» в зверином стиле степной Скифии. В: Евглевский А.В. (ред.). Структурно-семиотические исследования в археологии. Т. 1. Донецк: ДонНУ, 77—130.
- Круглов Е.А., Подопригора А.Р. 2017. Андрогинная Горгона римской Британии. Новый Гермес 10, 191—201.
- Лаппо-Данилевский А., Мальмберг В. 1894. Курган Карагодеуашх. МАР 13.
- Лесков и др. 2013: Лесков A.M., Беглова Е.А., Ксенофонтова И.В., Эрлих В.Р. 2013. Меоты Закубанья в середине VI — начале III вв. до н.э.: Некрополи у аула Уляп. Святилища и ритуальные комплексы. Москва: Наука.
- Лосев А.Ф. 1999. Афина Паллада. В: Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. Санкт-Петербург: Алетейя, 227—328.
- Малышев А.А. 1992. Позолоченные терракотовые медальоны с изображением Медузы Горгоны в Прикубанье. В: Кокорина Ю.Г., Переводчиков В.В. (ред.). Граковские чтения на кафедре археологии МГУ 1989—1990 гг. Материалы семинара по скифо-сарматской археологии. Москва: МГУ, 49—56.
- Марковин В.И. 1994. Каменная летопись страны вайнахов. Памятники архитектуры и искусства Чечни и Ингушетии. Москва: Русская книга.
- Марченко И.И. 1996. Сираки Кубани (По материалам курганных погребений Нижней Кубани). Краснодар: Кубанский государственный университет.
- Маслов А.А. 2003. Инь и ян: хаос и порядок. В: Маслов А.А. (ред.). Китай: Укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз. Москва: Алетейя, 29—36.
- Раевский Д.С. 1985. Модель мира скифской культуры. Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия до н.э. Москва: ГРВЛ.
- Рахно К. 2019. Горгона в будiвельнiй керамщ античносп: витоки та семантика апотропею. Археолог1чна Керамолог1я. Отшне. № 2 (2), 93—119.
- Ростовцев М.И. 1925. Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических. Ленинград: Государственная академия истории материальной культуры.
- Русяева М.В. 2002. Горгонейоны на произведениях торевтики из Скифских курганов. В: БЧ 3. Боспор Киммерийский, Понт и варварский мир в период античности и средневековья. Керчь: Центр археологических исследований, 216—218.
- Рябова В.А., Лежух И.П. 2001. «Чёрная археология» и история царя Скила. Восточноевропейский археологический журнал 2(9). URL: http://archaeology.kiev.ua/journal/020301/ryabova_lezhukh.htm (дата обращения 25.11.2021).
- Семенов Л.П. 1959. Фригийские мотивы в древней ингушской культуре. Известия Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Т. 1. Вып. 1. История, 197—219.
- Скржинская М.В. 2010. Культурные традиции Эллады в античных государствах Северного Причерноморья. Киев: Институт истории Украины НАН Украины, 202—205.
- Трубачев О. Н. 1976. О синдах и их языке. ВЯ 4, 39—63.
- Цароева М. 2012. Тушоли — последняя богиня-мать Кавказа. Ростов-на-Дону: Южный издательский дом.
- Шауб И.Ю. 1987. К вопросу о культе отрубленной человеческой головы у варваров Северного Причерноморья и Приазовья. В: Максименко В.Е., Раев Б.А. (ред.). Античная цивилизация и варварский мир в Подонье-Приазовье (тезисы докладов к семинару). Новочеркасск: [б.и.], 16.
- Шауб И.Ю. 1992. Образ Медузы Горгоны в Северном Причерноморье. В: Древние культуры и археологические изыскания. Материалы к пленуму ИИМК 26—28 ноября 1991 г. Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 70—72.
- Шауб И.Ю. 1999. Культ Великой богини у местного населения Северного Причерноморья. Stratum plus 3, 207—224.
- Шауб И.Ю. 2006. Причерноморско-италийские этюды VI. Змееногая богиня в Скифии и Древней Италии. Итальянский сборник 9, 5—22.
- Шауб И.Ю. 2007. Миф, культ, ритуал в Северном Причерноморье VII—IV вв. до н.э. Санкт-Петербург: СПбГУ.
- Шауб И.Ю. 2008. Италия—Скифия: культурно-исторические параллели. Москва; Санкт-Петербург: ИИМК РАН.
- Шауб И.Ю. 2009. О семантике изображения Скиллы на зеркале из Артюховского кургана. В: Вахтина М.Ю., Соколова О.Ю., Грицик Е.В., Зуев В.Ю., Кашаев С.В., Хршановский В.А. (ред.). Боспорский феномен: искусство на периферии античного мира. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург: Нестор-История, 276—280.
- Шауб И.Ю. 2010. Об архаических чертах в культе Деметры в Ольвии. Новый Гермес 4, 5—14.
- Шауб И.Ю. 2011. Эллинские традиции и варварские влияния в религиозной жизни греческих колоний Северного Причерноморья (VI—IVвв. до н.э.). Saarbrücken: LAP.
- Шауб И.Ю. 2014. Боспорские курганы и загробные представления боспорян. БИ ХХХ, 639—694.
- Шауб И.Ю. 2017a. Боспорское жречество. БИ XXXIV. Элита Боспора Киммерийского: Традиции и инновации в аристократической культуре доримского времени, 288—324.
- Шауб И.Ю. 2017b. Монстры в культуре скифов. Новое прошлое 4, 25—47.
- Шауб И.Ю. 2019. Монстры в древности. Первобытность. Эгейская культура. Древний Восток. Античный мир. Фуртай Ф.В. (ред.). Архетип Ночи в мировой культуре. Санкт-Петербург: ЛГУ им. А С. Пушкина, 211—234.
- Шауб И.Ю. 2020. Боспорская Ио. Новый Гермес 12-1, 130—138.
- Шиллинг Е.М. 1931. Ингуши и чеченцы. Религиозные верования народов СССР. Т. 2. Москва; Ленинград: Московский рабочий, 9—40.
- Элиаде М. 1999. Очерки сравнительного религиоведения. Москва: Ладомир.
- Эрлих В.Р. 2002. Украшения из Тенгинских святилищ. В: Вахтина М.Ю., Зуев В.Ю., Кашаев С.В., Хршановский В.А. (ред.). Боспорский феномен: погребальные памятники и святилища. Материалы международной научной конференции. Ч. 2. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 232—236.
- Эрлих В.Р. 2012. Украшения из золоченой терракоты в меотских памятниках Прикубанья (к проблеме культурных контактов в раннеэлинистическое время). В: Журавлев Д.В., Фирсов К.Б. (отв. ред.).
- Евразия в скифо-сарматское время. Памяти Ирины Ивановны Гущиной. Москва: ГИМ, 259—273 (Труды ГИМ 191).
- Christou A.Ch. 1968. Potnia Theron: eine Untersuchung über Ursprung, Erscheinungsformen und Wandlungen der Gestalt einer Gottheit. PhD Thesis. Thessalonike.
- Erlikh V. 2011. Gilded Terracotta Jewellery from Meotian Sites of the Kuban Region: the Problem of Intercultural Contact in the Early Hellenistic Period. PONTIKA 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times. Proceedings of the International Conference, 21st — 26th April 2008, Krakow, 113—128 (BAR Intern. ser. 2240).
- Frothingham A.L. 1911. Medusa, Apollo and the Great Mother. AJA. Vol. 15. No. 3, 349—377.
- Frothingham A.L. 1922. Medusa as Artemis in the Temple at Corfu. AJA. Vol. 26. No. 1, 84—85.
- Gimbutas M. 1989. The Language of the Goddess. New York: Thames and Hudson.
- Krauskopf I. 1988. Gorgo, Gorgones. LIMC IV: 285—330.
- Marinatos S. 1927—1928. Topyovsg Kai Topyovsia. АрхшоХоугщ E^n^spiq 1927—1928, 7—41.
- Rostovtzeff M. 1922. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford: Clarendon Press.
- Rose H. 1928. Handbook of Greek Mythology. London: Methuen & Co.
- Smith S. 1926. The face of Huwawа. Journal of the Royal Asiatic Society 26, 440—442.
- Wilk St. 2000. Medusa: solving the mystery of the Gorgon. Oxford: Oxford University Press.
- Ziegler K. 1912. Gorgo. In: Wissowa G., Kroll W. (Hrsg.). Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Bd. 14. Hb. 2. Glykyrrh—Helikeia. Stuttgart: J.B. Metzlersche Buhhandlung, 1630—1655.
- Zolotnikova O.A. 2016. A hideous monster or a beautiful maiden?: Did the Western Greeks alter the concept of Gorgon? In: Reid H.L., Tanasi D. (eds.). Philosopher Kings and Tragic Heroes: Essays on Images and Ideas from Western Greece. Sioux City: Parnassos Press, 353—370.