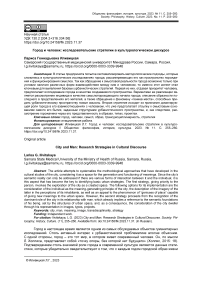Город и человек: исследовательские стратегии в культурологическом дискурсе
Автор: Иливицкая Л.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка систематизировать методологические подходы, которые сложились в культурологических исследованиях города, рассматривающих его как пространство порождения и функционирования смыслов. Так как обращение к смысловой реальности города возможно только при условии наличия различных форм взаимодействия между ним и человеком, то именно этот аспект стал ключевым для выявления базовых урбанистических стратегий. Первая из них, отдавая приоритет человеку, предполагает исследование города в качестве создаваемого пространства. Вариантами ее реализации является рассмотрение индивида в качестве смыслопорождающего начала города, описание образности последнего в представлениях его жителей, а также обращение к феномену «гениев места», способных придать урбанистическому пространству новые смыслы. Вторая стратегия исходит из признания доминирующей роли города в его взаимоотношениях с человеком, что уже предполагает отсылку к смысловым основаниям самого его бытия, заданным структурами урбанистического пространства, и, как следствие, рассмотрение горожанина через его представленность в образах, типах, проектах.
Город, человек, смысл, образ, трансдисциплинарность, стратегия
Короткий адрес: https://sciup.org/149144727
IDR: 149144727 | УДК: 130.2:[304.2+316.334.56] | DOI: 10.24158/fik.2023.11.37
Текст научной статьи Город и человек: исследовательские стратегии в культурологическом дискурсе
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России, Самара, Россия, ,
становится все более востребованным1. И темпы этого процесса таковы, что уже не такой фантастической кажется идея, выдвинутая греческим архитектором К. Доксиадисом, о планетарном городе Экуменополисе, который станет конечной стадией процесса урбанизации. С другой стороны, город меняет и самого человека, которого уже нельзя мыслить без учета урбанистической «рамки» его бытия. В настоящее время человечество – это городской вид. Именно такое заключение делает Э. Глейзер в работе «Триумф города. Как наше величайшее изобретение делает нас богаче, умнее, экологичнее, здоровее и счастливее» (Глейзер, 2015: 11). Аналогичную мысль высказывает Г.В. Горнова, говоря о том, что «сложно переоценить влияние города на жизнь человека, культуры и общества, поэтому homo sapiens мы можем уверенно определить как « homo urbanus » (человек городской)» (Горнова, 2010: 86).
Представленные доводы об актуальности городской проблематики, безусловно, не являются исчерпывающими. Однако обращение именно к ним позволяет не только обосновать значимость города для современности, но и одновременно задать тот исследовательский локус, «точку зрения» в обширном проблемном поле « urban studies », которая находится в центре внимания данной статьи. Ведь, как отмечал Ю.М. Лотман, город «меняется в зависимости от того, с какой точки зрения мы смотрим на него» (Лотман, 2005: 85).
В данной работе речь идет о городе, взятом в его «серединном бытии», представляющем собой особую смысловую реальность, сама возможность которой обусловлена лишь благодаря взаимодействию с человеком. Причем данная связка предполагает, что характер взаимоотношений между ними носит инверсионный характер. Сменяя друг друга, они «примеряют» на себя как роль творца, так и творения. Человек создаёт город в той степени, в какой он обладает способностью наделять его смыслами и символами. Как отмечает И.И. Митин, «существование индивида, социальной группы или общества в целом где-то, в каком-то пространстве предполагает то или иное осмысление этого пространства» (Митин, 2005: 12). Город – это место, возникающее в процессе объяснения и понимания его людьми (Tuan, 1979). В этом плане он невозможен без наличия человека, выступающего в качестве активного и созидающего начала.
В то же самое время именно город, трансформируя собственные смыслы в основания человеческого бытия, диктует определенное видение и самого человека. Последний здесь утрачивает творческую активность по отношению к городскому пространству. Он рассматривается как «творение», продукт урбанистической среды, которая либо изначально содержит в себе представления о «своем жителе», либо продуцирует его, определенным образом организуя его практики, структурируя и задавая им смысл. Как утверждает Э. Сойя, образ города предстает в виде «интерпретативных координатных сетей, согласно которым мы мыслим о чем-либо, оцениваем и решаемся на действие в местах, пространствах и коммуникациях» (Сойя, 2003: 146).
Таким образом, обращение к городу как к смысловой конструкции с определенной долей условности позволяет выделить две линии движения в исследовательских стратегиях: от человека к городу, где первый является создателем смысловой городской реальности, и от города к человеку, где уже конструируемая реальность задает определенные образы горожан, им порождаемые. Причем каждая из выделенных исследовательских оптик достаточно вариативна и реализуется в различных форматах, проясняющих наличествующие взаимосвязи между человеком и городом.
Первое направление исследовательского поиска предполагает следующие смыслообразующие активности человека: как ценностно-смысловое начало города, как непосредственного создателя городской образности; как «гения места».
По мнению Г.А. Мельничука, «ключевой вопрос, актуальный в нынешнюю эпоху глобальных трансформаций, – в поиске смысла существования города. Ведь нельзя чего-то достичь, если мы не понимаем, чего хотим в итоге»2. И именно поиск смысла существования города ставит вопрос о том, что (или кто) выступает в качестве базовой ценности его развития.
Ретроспективный взгляд на город наглядно свидетельствует о том, что смысл его существования в различные исторические периоды определялся различными феноменами: торговлей, обороной, промышленностью и т.д. Человек же фактически был исключен из городского целеполагания. Я. Гейл пишет, что, несмотря на различие городов по уровню развития, географическим и экономическим признакам, общим для всех них являлось одно – «отсутствие должного внимания к людям, которые пользуются городским пространством» (Гейл, 2012: 3). Такое положение дел было справедливо вплоть до того момента, пока проблема бытия человека в городе, его самоощущения в нем не стала одной из ведущих. А случилось это во второй половине XX в.
В урбанистке данная ситуация была определена как «антропологический переворот». С этого момента город начинает рассматриваться в качестве особого мира человека, осознаваться как его дом (Устюгова, 2018: 205). Признание субъекта в качестве главной доминанты существования города изменило базовую смысловую установку в его понимании. Утверждение «люди для города» уступило место идее «город для людей». Следствием этого является возникновение концепций «очеловеченного города», «городов для жизни», которые активно разрабатываются в последнее время. Причем изменение смысловой составляющей существования города в свою очередь повлияло на понимание самого человека-горожанина. Он все меньше стал трактоваться как «среднестатистический» субъект или как единица измерения, позволяющая рассчитать объемы строительства жилья, число городских библиотек, душевой доход и т.п. Он начинает мыслиться как «личность, со своими запросами, оценками и ожиданиями, со своими привязанностями, со своими складывавшимися годами социальными связями и контактами» (Дридзе, 1998: 94). Иными словами, утверждение человека в качестве базовой ценности существования города приводит к новому пониманию последнего, которое уже в свою очередь заставляет менять образ, проект самого горожанина. Однако данный момент более подробно будет рассмотрен ниже.
Другой вариант в рамках изучаемой исследовательской стратегии акцентирует свое внимание на формах и способах участия человека в «производстве» смыслов городского пространства. Классической работой, которая отражает данную позицию, является книга А. Лефевра «Производство пространства» (Лефевр, 2015). Центральную идею этого произведения можно определить следующим образом: «Мы – рабочие, создающие свою собственную фабрику, просто гуляя по улице» (Makimoto, Manners, 1997: XIII). Согласно А. Лефевру, производство урбанистического пространства происходит благодаря множественным действиям различных участников городской жизни. В обобщенном виде они могут быть представлены как пространственная триада, составными элементами которой являются: репрезентация пространства, пространство репрезентации и пространственные практики. Каждый из этих элементов, по-разному участвуя в производстве города, исходя из имеющихся у него возможностей, формирует свою и в то же время общую его смысловую реальность (Лефевр, 2015).
На сегодняшний день сложился обширный комплекс отечественных и зарубежных исследований, в которых ученые пытаются прояснить специфику взаимоотношений человека и города в разрезе понимания последнего как пространства производства и функционирования смыслов. В самом общем виде дебаты разворачиваются вокруг двух базовых вопросов: как город написан и как он прочитывается. Инструментами, с помощью которых культурологическая мысль пытается найти ответы на поставленные вопросы, являются: текст, образ, миф, имидж и т.п. Нельзя не согласиться с И.И. Митиным, который указывает на близость данных понятий. Он отмечает, что «полевые и прикладные исследования наводят на мысль о близости (особенно в отношении интерпретации конкретных локальных пространственных смыслов) различных категорий, обозначающих представления о месте, – таких как, например, образ, географический образ, пространственный (локальный) миф, пространственное представление, пространственный феномен, локальный текст и др. Различия между этими категориями прежде всего выражаются в интерпретации конечного продукта, позиционировании категорий как тех или иных составляющих социального мира» (Митин, 2005: 13).
Третий вариант, который рассматривает человека в качестве смыслообразующего фактора городской реальности, оперирует совсем другой оптикой. В центре его внимания находится человек, взятый как «гений места». П. Вайля писал, что город для современного человека выступает главной точкой приложения культурных сил. «Их облик определяется гением места, и представление об этом – сугубо субъективно. Субъективность многослойная: скажем, Нью-Йорк Драйзера и Нью-Йорк О. Генри – города хоть и одной эпохи, однако не только разные, но и для каждого – особые. <...> На линиях органического пересечения художника с местом его жизни и творчества возникает новая, неведомая прежде, реальность, которая не проходит ни по ведомству искусства, ни по ведомству географии» (Вайль, 2006: 5).
«Гению места» присуща особая смысловая активность, способная придать городу новое образное звучание или задать иную маркировку. Д.Н. Замятин выделяет три базовые стратегии взаимоотношений между гением и местом: «пересмотра места» (изменение контекста места), расширения образно-географических контекстов места (увеличение или обновление его образности) и «уничтожения места» (поглощение образа места образом гения) (Замятин, 2016: 11–12).
В современных урбанистических исследованиях феномен «гения места» оценивается как важный символический ресурс городского развития. Его наличие позволяет конкретным локусам сформировать значимые ценностно-смысловые ориентиры, приобрести такие черты, как историческая насыщенность, привлекательность, известность, узнаваемость.
Второе выделенное нами направление исследовательского поиска наделяет активностью уже не человека, а город. Он реализует свое смыслотворческое начало по отношению к субъекту за счет того, что задает проекты предполагаемого жителя города, определяет набор тех ролей, которые могут быть им сыграны в урбанистическом пространстве, формирует типичные образы, порождаемые городской средой.
Признавая за последней активное начало, можно с уверенностью утверждать, что она предполагает определенный проект горожанина, который ей соответствует. Причем совсем не обязательно, что проектируемый человек уже присутствует или будет присутствовать в городском пространстве. Речь в данном случае идет о том, что проект является составной частью смысла существования города, который и задает различные трактовки понимания человека-горожанина. Об этой инверсии мы говорили выше, отмечая, что позиция «город для людей» с неизбежностью ставит вопрос, «о каких людях идет речь». Так, Е.Н. Устюгова, анализируя представления о человеке, характерные для проектов унифицированного идеального городского пространства Ле Корбюзье, Баухауса и др., отмечает, что он мыслится лишь «функцией обезличенной и де-индивидуа-лизированной городской реальности», в результате чего происходит «атрофия антропологической и экзистенциальной составляющей человеческой жизни» (Устюгова, 2018: 201). К. Шлегель, рассуждая о специфике соцгорода, утверждает, что он был попыткой реализовать социальную утопию, скроенную «в соответствии с потребностями революционного класса. Трагедия заключалась в том, что людей, которые могли бы стать носителями таких форм жизни (иначе говоря, адресатом проекта), как правило, в этот момент – уже или еще – не было в наличии» (Шлегель, 2012). Сегодня в контексте развития идеи «города для людей» стоит вопрос о возможности создания таких структур для пенсионеров, ученых и т. д. Но в любом случае в проекте горожанина, с одной стороны, находят отражение те или иные смыслы человеческого существования в урбанистическом пространстве, с другой – он сам выступает частью представлений о городе.
Другим вариантом данного направления является обращение к типам жителей, которых порождает город. Основанием для их обнаружения выступает выбор смыслов урбанистического пространства. Чаще всего в центре внимания исследователей оказываются образы горожан, порожденные современным мегаполисом. Так, одним из самых известных типажей является фланер, который, по мысли В. Беньямина, может быть охарактеризован как специфический субъект модерного города, основным занятием которого являются праздные прогулки (Беньямин, 2000). Проигранный много раз в урбанистической литературе образ фланера приобрёл множество разновидностей. Так, например, Е.Ю. Булыгина и Т.А. Трипольская утверждают, что в зависимости от места проведения времени и вида деятельности фигура фланера может быть представлена следующими его типами: турист, потребитель, тусовщик, «шопингер», фланер, осуществляющий прогулку по виртуальному пространству (Булрипольская, 2010: 320).
Еще одним, не менее популярным типажом большого города является кочевник. Одним из первых о нем пишет О. Шпенглер. Новый кочевник мировых столиц – это человек, родиной которого является мегаполис. Он утратил свои корни, «не признает свое прошлое и не обладает будущим» (Шпенглер, 1998: 377). О жителях современных городов как кочевниках, номадах рассуждают Ж. Делез и Ф. Гваттари. Основания здесь другие: не человек отрывается от почвы, но город меняет свою сущность, становясь частью мировой сети, пространством потоков, а не местом, насыщенным смыслами, значениями, ценностями. Вследствие этого горожанин перестает быть привязанным к месту проживания. Включенный в общее номадическое движение, он больше нигде не дома (Deleuze, Guattarri, 1977: 298). Его идеологией является отказ от фиксированной локализации и сетевой образ жизни. Кочевник, как и фланер, вариативен. Так, например, практики ведения кочевого образа жизни, обусловленные развитием информационных технологий, получили название «цифровое кочевничество» (Marrifield, 2006), а диджитал-номады стали предметом исследований не только экономического или технического плана, но и социокультурного.
На сегодняшний день перечень типов современного горожанина достаточно длинен, и, скорее всего, он будет пополняться. Связано это с тем, что город, меняясь, порождает новые формы и способы проживания в нем, а человек, соответственно, формирует актуальный бытийный опыт их реализации.
Третий подход основывается на известном утверждении, что «человек носит в себе свой город»1. Индивид в силу своей культуросообразности приобретает черты того городского топоса, в котором существует. По меткому замечанию Л. Холлиса, «город – это не только место, где я живу, это я сам. Лондон теперь – часть моей личности, он вплелся в мою ДНК невидимой третьей спиралью» (Холлис, 2015: 11). Город получает свое продолжение в человеке, разворачиваясь в нем идентификационной принадлежностью. На повседневном или художественном уровнях это находит отражение в рассуждениях и описаниях не просто горожанина, а представителя конкретного локуса: москвича, петербуржца, пермяка и т. д. Культурологические исследования не только фиксируют или описывают данный факт, они ищут (и находят) эффективные инструменты, выявляющие и проясняющие эти различия. Одна из таких попыток представлена в монографии «Пермь как стиль. Презентации пермской городской идентичности» (2013). Как видно из названия, в качестве ведущего методологического инструментария авторами предлагается «стиль», определяемый как «специфический способ организации своей жизни индивидом или группой индивидов, вытекающий из их представлений об окружающем мире (включая идентичность) и предполагающий утверждение этого представления в практиках и риториках» (Пермь как стиль. Презентации пермской городской идентичности …, 2013: 15). Здесь важно подчеркнуть, что обращение к стилю возможно только в том случае, когда сущность города определена через его видение, которое, в свою очередь, конструируется посредством культуры.
В заключение хотелось бы остановиться еще на одном моменте, общем для всех представленных стратегий. По верному замечанию А.С. Бреславского, устойчивый интерес к исследованиям города можно сохранить только тогда, когда производимый ими продукт станет значимым ресурсом «в развитии общегуманитарного дискурса о городе и реализации современных и будущих социальных/технологических проектов городского развития» (Бреславский, 2010: 40). Иными словами, речь идет о трансдисциплинарности культурологических исследований города, предполагающей выход за пределы научных построений в «жизненный мир», преобразование теоретического знания в «знание работающее», путем его соединения с практикой городского управления.
Тема города и человека, взятая в любом из представленных выше направлений, безусловно, имеет выраженную трансдисциплинарную ориентацию в силу ее связанности с пространством научного пограничья, жизненными практиками горожан, управленческими решениями. Обращение к онтологии и семантике урбанистического пространства, к смыслам бытия человека в нем позволяет оценить состояние современного города, определить возможности и угрозы его функционировании в настоящем и увидеть перспективы дальнейшего развития. Культурологическое описание и интерпретация конкретных городских проблем способны оказать влияние на решения менеджмента в области городского развития, разработку программ и проектов, связанных с преобразованием городской среды, созданием позитивного имиджа, стать основанием для осуществления гражданских инициатив различных городских сообществ.
Список литературы Город и человек: исследовательские стратегии в культурологическом дискурсе
- Беньямин В. Озарения. М., 2000. 376 с.
- Бреславский А.С. Исследования города // Антропологический форум. 2010. № 12. С. 39-47.
- Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А. Прогулки по европейскому городу: аллея, boulevard, promenade, alberato, passеggiata // Критика и семиотика. 2010. № 14. С. 311-320.
- Вайль П. Гений места. М., 2006. 488 с.
- Гейл Я. Города для людей. M., 2012. 276 с.
- Глейзер Э. Триумф города. Как наше величайшее изобретение делает нас богаче, умнее, экологичнее, здоровее и счастливее. М., 2015. 432 с.
- Горнова Г.В. Homo urbanus: психоаналитический аспект // Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 5. С. 86-93.
- Дридзе Т.М. Социальная диагностика в градоустройстве // Социологические исследования. 1998. № 2. С. 94-97.
- Замятин Д.Н. Гений и место: искусство метагеографии // «Гений места» в русском искусстве ХХ века. Волгоград, 2016. C. 8-20.
- Лефевр А. Производство пространства. М., 2015. 432 с.
- Лотман Ю.М. Воспитание души. СПб., 2005. 624 с.
- Митин И.И. Мифогеография: пространственные мифы и множественные реальности // Communitas. 2005. № 2. С. 12-25.
- Пермь как стиль. Презентации пермской городской идентичности / под ред. О.В. Лысенко, Е.Г. Трегубовой. Пермь, 2013. 240 с.
- Сойя Э. Постметрополис. Критические исследования городов и регионов // Логос. 2003. № 6 (40). С. 133-150.
- Устюгова Е.А. Антропологический поворот в современной урбанистике // Terra Aestheticae. 2018. № 1. С. 199-215.
- Холлис Л. Города вам на пользу. Гений мегаполиса. М., 2015. 432 с.
- Шлегель К. Возвращение европейских городов // Отечественные записки. 2012. № 3 (48). С. 288-304.
- Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы. М., 1998. 606 с.
- Deleuze G., Guattarri F. City-State // Rethinking Architecture. A Reader of Cultural Theory. L., 1977. P. 296-299.
- Makimoto T., Manners D. Digital Nomad. N. Y., 1997. 256 p.
- Marrifield A. Henri Lefebvre: A Critical Introduction. N. Y. ; L., 2006. 196 p.
- Tuan Yi-Fu. Space and Place: Humanistic Perspective // Philosophy in Geography. Dordrecht, 1979. P. 387-427. https://doi.org/10.1007/978-94-009-9394-5_19.