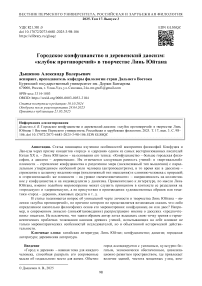Городское конфуцианство и деревенский даосизм: «клубок противоречий» в творчестве Линь Юйтана
Автор: Дышенов А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению особенностей восприятия философий Конфуция и Лао-цзы через призму концептов «город» и «деревня» одним из самых вестернизованных писателей Китая ХХ в. – Линь Юйтаном – на основании его тезиса: «Конфуцианство – больше городская философия, а даосизм – деревенская». Им отмечается следующая разность учений: в «вертикальной» плоскости – стремление конфуцианства к разделению мира (эксклюзивный тип мышления) с параллельным утверждением особенной роли человека (антропоцентризм), в то время как в даосизме – стремление к цельному видению мира (инклюзивный тип мышления) и слиянию человека с природой; в «горизонтальной» же плоскости – на уровне «межчеловеческого» – направленность на коллективное у конфуцианства и на индивидуализм у даосизма. Применительно к литературе, по мысли Линь Юйтана, именно подобное мировоззрение может служить принципом в контексте ее разделения на «городскую» и «деревенскую», а не присутствие в произведении художественных образов или тематики «город – деревня», языковых средств и т. д. В статье поднимается вопрос об уникальной черте личности и творчества Линь Юйтана – явлении «клубка противоречий», по причине которого не представляется возможным сказать что-либо определенное касательно философских основ его мировоззрения: конфуцианец он или даос? Например, в современном линьсюэ (линьюйтановедении) распространено мнение о даосских «предпочтениях» писателя. Не исключено, что таким образом автор хотел высказать свою точку зрения о герменевтических проблемах толкования канонов древних учений, испытывающих на себе влияние не только мировоззренческих особенностей исследователей, но и объективной исторической действительности.
Китайская литература, Линь Юйтан, конфуцианство, даосизм, городская литература, деревенская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/147252283
IDR: 147252283 | УДК: 821.581.0 | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-3-98-106
Текст научной статьи Городское конфуцианство и деревенский даосизм: «клубок противоречий» в творчестве Линь Юйтана
«Город и деревня» – важная тема для каждого человека, способная раскрыть его сокровенные мысли об «идеальном» месте для жизни. Обычно город ассоциируется с успешным, культурно богатым, экономически обеспеченным, цивилиза-ционно развитым пространством, где привлекает величие зданий, чистота мощенных улиц, ком-
мунальные удобства; будучи местом концентрации людей, город открывает обилие возможностей для развития индивида. Жизнь в деревне с такого ракурса видится чрезвычайно ограниченной, со множеством лишений культурного, финансового, санитарного плана, когда мир замыкается до небольшого участка земли и узкого человеческого сообщества. Однако можно найти и преимущества деревенского быта как места сближения человека с настоящей, большой природой, где дышится чистым и свежим воздухом, глаз радуется естественной красоте лесов и полей, натуральные продукты питания открывают другое восприятие пищи, а взаимодействие с землей и животными научает иному ощущению бытия. При таком подходе очевидными становятся недостатки «города»: загазованный воздух, не всегда здоровая еда, хронический дефицит времени, повсеместное многолюдство и т. д. Подобное видение города и деревни находит свое отражение в культурной жизни человека, применительно к литературе - в ее разделении на «городскую» и «деревенскую».
Возникает ряд вопросов относительно принципов такого рода разделения: обязательно ли оно связано с наличием больших зданий, цивилизованностью, количеством людей, существуют ли иные факторы, влияющие на определение «города» или «деревни»? Допустимо ли обозначенные различия считать лишь признаками, или так называемыми «акциденциями», города и деревни? Если да, то в чем может заключаться их отличие на уровне «сущности», что делает их таковыми, кроме географической локации, жизненного инструментария и человеческого окружения? Что делает литературу «городской» или «деревенской»? Например, о «деревенской» прозе пишется: «В основе отнесения произведений к данному кругу литературы лежит не только тематический принцип, поскольку тема деревенской жизни не всегда является единственной в произведениях даже самых известных писателей данного литературного направления, а также то, что не все произведения о деревне относили к деревенской прозе» [Шагбанова, Бобкова 2016: 62].
Интересную точку зрения представил китайский писатель ХХ в. Линь Юйтан (1895-1976), говоря: «Конфуцианство - по сути больше городская философия, а даосизм - деревенская» (Линь Юйтан 2010: 118); словно «город» и «деревня» являются лишь неким отражением философских систем. Установить правомочность данного сравнения, исходя из этого выявить разницу между «городской» литературой и «деревенской», доказать наличие проблемы «клубка противоречий» в определении предпочтений Линь Юйтана по отношению к учениям Конфуция и
Лао-цзы - цель настоящего исследования; оно проведено на материале работ писателя: «Китайцы. Моя страна и мой народ», «Мудрость Конфуция», «Мудрость Лао -цзы», «От язычника к христианину».
В основу методологии исследования положен комплексный подход, соединяющий биографический метод для изучения жизни и творчества писателя, а также историко-литературный и герменевтический подходы для анализа особенности восприятия Линь Юйтаном учений Конфуция и Лао-цзы в призме концептов «города» и «деревни».
Мнение писателя, дающее надежду на решение проблемы «…идеология и социальные системы Китая и Запада принципиально несовместимы» [Дикарев, Фань Сюэсун 2023: 117], сегодня особенно ценно, ведь не исключено, что разница цивилизаций проходит на стыке философий конфуцианства и даосизма.
Линь Юйтан и «городское» конфуцианство
Восприятие писателем конфуцианства далеко от революционного, например, когда «мощная идеологическая война была объявлена Конфуцию в начале 70-х гг. и известна в истории под названием кампании “критики Линь Бяо и Кoн-фуция”» [Ветлужская 2015: 910]; его метод носит реформационный характер, в стремлении к возврату в «начальное» с секуляризацией конфуцианских «святых»: «Я ничего не принимаю как должное и должен лишить Конфуция и конфуцианство тех некоторых понятий и убеждений, которыми они были окрашены» (Линь Юйтан 1959: 68). При этом он всё же заботливо предостерегает читателя о субъективности своих взглядов: «Если я сейчас пишу о сокровищницах конфуцианской философии, я осознаю, что до меня это делали тысячи китайских ученых, тем не менее, я могу писать только о своем собственном восприятии и понимании, а также о своих оценках и интерпретациях» (там же).
Автор пытается придать больше естественности образу Учителя и оригинальности его учения; так, исследователь Лю Ихуа пишет: «Конфуцианство, на которое обращает внимание Линь Юйтан, было классической мыслью Конфуция и его учеников до-циньского периода; по его мнению, их мысли были истоком, настоящим конфуцианством; ханьское и сунское конфуцианство уже имело много примеси иного, и особенно по отношению к псевдо-даосскому конфуцианству эпохи Сун Линь Юйтан проявлял много сарказма» [Лю Ихуа 2017: 98].
Обращение Линь Юйтана к биографическому методу Сент-Бева, связывающего «генетическим родством творца и его творение» [Косиков 1987:
11], приводит к поразительным выводам о преимуществах «Пятиканония» взамен «Четверок-нижия», тексты которого были собраны Чжу Си в XII в. и со временем стали «основой классического конфуцианского образования» [Конфуцианское «Четверокнижие» 2004: 11]. Хотя писатель не призывает к пересмотру канона, избранный им метод так или иначе говорит: пусть не написанные лично Конфуцием, но отобранные, отредактированные, утвержденные им книги «Ши цзин», «Шу цзин» и др. могут оказаться более авторитетными в познании учения, нежели отдельные цитаты Учителя Куна, зафиксированные в «Лунь юй», «Мэн-цзы» и т. д.
В толковании Линь Юйтана конфуцианство – строго философское учение, сосредоточенное на «…проблеме человека и проблеме общества. Конфуций, по существу, был педагогом, заинтересованным в социальных реформах посредством совершенствования личности, а также он был социальным философом» (Линь Юйтан 1959: 76). Учитель Кун сливает воедино этику и политику, где персональное развитие человека (а не, допустим, правовой системы) видится единственным основанием для созидания гармоничного общества и государства.
В разные периоды истории Китая конфуцианство имело религиозный статус: совершались храмовые служения, приносились жертвы; писателем не отвергается «метафизическое» в учении, например, уже в факте веры в догмат о долге человека становиться цзюнь-цзы, «благородным мужем». Поэтому автор допускает слово «религия», называя конфуцианство «религией цзюнь-цзы», с той разницей, что здесь отсутствуют традиционно религиозные притязания на устранение человеческого греха и достижение совершенства: «Конфуций не предъявлял невыполнимых требований к человеческой природе. Его занимала не проблема греха, а лишь плохие манеры, дурное воспитание и невежественное самодовольство некультурного человека. Его устраивало, если человек обладал каким-то нравственным сознанием и постоянно стремился к самосовершенствованию» (там же: 78).
Заслуживает внимания языковой аспект восприятия Линь Юйтана, явленный им в переводе конфуцианских категорий на английский язык, например жэнь: «Концепцию жэнь также трудно перевести, как и концепцию ли. В китайском письме этот иероглиф состоит из “два” и “человек”, обозначая отношения между людьми» (Линь Юйтан 1938: 18); мировое китаеведение в целом подтверждает подобное толкование, предлагая слова «человеколюбие», «доброта», «уважение», «великодушие» [Юркевич 2006: 204], но Линь Юйтан вносит дополнительный оттенок, определяя жэнь как “true manhood” – истинную человечность: «Когда человек действительно является самим собой. <…> Если он хранит верность своему сердцу и испытывает некоторое презрение к искусственности цивилизации» (Линь Юйтан 1938: 19). Жэнь – это, во-первых, про отношение к самому себе, и только потом – к другим. Будучи талантливым переводчиком и противником крайностей, он также предупреждает о выборочности данного решения: «В некоторых местах это должно быть передано просто как “доброта”, точно так же, как ли в определенных ситуациях переводится как “ритуал”, “церемония” или “манеры”» (там же). Здесь открывается следующий пример его переводческого новаторства – в передаче категории ли как “good manners” – хорошее поведение: поступки человека, помимо соответствия порядку, должны обладать «хорошим» состоянием сердца, действия «ради галочки» не отвечают требованиям о ли. «Хорошее поведение» важно не только в плоскости межчеловеческого, то есть на «горизонтальном» уровне, – оно вселенски функционально, имеет потенцию к регуляции «вертикальных» отношений между Небом и Землей. Линь Юйтан приводит слова Конфуция: «В искусстве управления ли стоит на первом месте. Это средство, с помощью которого мы устанавливаем формы поклонения, позволяющие правителю, с одной стороны, предстать перед духами Неба и Земли при жертвоприношениях, а с другой – средство, с помощью которого мы устанавливаем формы общения при дворе и чувство благочестия или уважения между правителями и управляемыми» (Линь Юйтан 1959: 96). Реальным воплощением ли стало учение о сяо, чаще переводимое как «сыновняя почтительность» [Мартынов 2001: 31], однако у Линь Юйтана оно – «хорошее воспитание»: «Я не знаю, почему сяо переводится таким громоздким способом. Сяо – просто означает быть хорошим сыном или хорошей дочерью. Конфуцианство обеспечивает мотивацию жизни не для того, чтобы человек стал хорошим человеком абстрактно, а, скорее, в конкретных терминах – быть хорошим сыном, хорошим братом, хорошим дядей или хорошим дедушкой» (Линь Юйтан 1959: 100).
Таким образом, Линь Юйтан акцентирует нацеленность конфуцианства на разделения: «вертикально» – в разделении мира на Великую Триаду «небо – земля – человек», с подчеркиванием особенной роли последнего, а на уровне межчеловеческом, «горизонтально», – в разделении общества на «общее – частное», «старшее – младшее», с обязательным насаждением культуры «шан-ся» (верхнее – нижнее) и подчинением меньшего большему.
Подобная философия задает совершенно иной характер определения литературы как «городской», когда во внимании – осознание человеком своего привилегированного положения в мире (между небом и землей), дающее позитивную мотивацию для взаимодействия с «нижним», с землей, но и призывающее жертвовать личным ради общего. Так, даже при наличии в произведении образов «деревни», сельского быта, если в нем подчеркивается антропоцентризм, исключительность человечества в духе: «Вы можете изменить мир!», и в то же время, в контексте социума, если коллективное превалирует над индивидуальным и значимость последнего воспринимается только в подчинении общине, то, по мысли Линь Юйтана, читатель имеет дело с «конфуцианской» (равно – «городской») литературой. Примером тому можно назвать творчество китайских писателей Левого крыла 1930–1940-х гг., утверждавших смысл и миссию словотворчества именно в ключе «городского конфуцианства», то есть в служении нуждам общества, как и Лу Синь, флагман данного движения, воспринимал свой «талант пера» – в первую очередь как оружие для защиты и спасения Китая.
Линь Юйтан и «деревенский» даосизм
«Конфуцианство ставит на первое место социальный статус и пристойное поведение, оно отстаивает умеренность и цивилизованность, тогда как даосизм воспевает возврат к природе, отвергает и умеренность, и человеческое общество с его цивилизованностью», – говорит Линь Юйтан (Линь Юйтан 2010: 117), отмечая, что каким бы притягательным и полезным социуму ни было учение Конфуция, оно всё же оказывается неполноценным для нормальной жизни отдельного человека: «Можно ужасно устать от Разума; по-настоящему рациональное общество, в котором человек всегда действует в соответствии с разумом, может быть скучным для взрослого человека. <...> У человека есть чувства, а иногда и небезосновательные мечты» (Линь Юйтан 1959: 105). Конфуцианский идеал «механизированного» общества уподобляется им семейству муравьев или рою пчел, которое должно было быть-таки сбалансировано даосизмом, сыгравшим спасительную роль в сохранении «китайской специфики», автор подкрепляет это значение примером сравнения с историей развития Европы: «В одном Восток и Запад вели себя одинаково: за рационализмом последовал романтизм. В Китае реакция романтизма на конфуцианский рационализм и ритуальный этикет проявилась в форме даосизма Лао-цзы и Чжуан-цзы. Романтизм был неизбежной психологической реакцией против чистого разума. <…> К счастью для Китая, китайцы наполовину были даосами» (Линь Юйтан 1959: 105).
Линь Юйтан подчеркивает религиозный характер даосизма, называя Чжуан-цзы «глубоким религиозным мистиком» (в то время как Конфуций – лишь педагог и философ) и утверждая центральной осью учения трансцендентное Дао: «Великий, активный принцип, стоящий за всеми явлениями, абстрактный принцип, который порождает все формы жизни и который, как великая вода, текущая повсюду, приносит пользу всем вещам и не приписывает себе никакой заслуги. Дао безмолвно, всепроникающе и описывается как “ускользающее, неуловимое”, невидимое, но всемогущее. Будучи источником всего, это также принцип, к которому в конечном итоге возвращаются все проявленные формы жизни» (там же: 120). Подобная онтология предлагает человеку модель цельного видения мира как единого Творения, со всеми видимыми и невидимыми его составляющими, даже конфуцианской Триады, – всё из Дао.
Цельное мировосприятие проявляется в инклюзивном способе мышления, то есть стремлении в частном видеть общее, что сильно отличается от конфуцианского эксклюзивного способа мышления, разделяющего общее на частное, – для Линь Юйтана последнее чрезвычайно напоминает привычки западного склада ума, выпестованного аристотелизмом, который «рождается с ножами в мозгу», пытаясь все подвергнуть анализу и расчленению: «…оружие логики было слишком острым, оно разрезало почти все, с чем соприкасалось, и оскорбляло истину, которая всегда была цельной» (там же: 105). Мир же в глазах даоса – не более чем движущиеся по кругу различные формы одного Дао, в своей противоположности они уравнивают друг друга и приходят к слиянию в конечной фазе, оказываясь крайне взаимозависимыми. Подобное мировосприятие нашло выражение в разных культурных достижениях Поднебесной, например в формировании законов китайской живописи, где «даосские космологические принципы передачи целостности единства мироздания при помощи изображения частного в виде отдельных сегментов сыграли определяющую роль» [Лебедев 2017: 199]. Нарушение данной гармонии является причиной проблем не только на уровне биологического существования человека, но даже государства и мира в целом: «По мнению Лао-цзы, человеческая глупость начинается с разрушения первоначального единства вселенной и проведения различия между добром и злом, уродством и красотой» (Линь Юйтан 1959: 123).
Предвидение цельности мира, попытка увидеть ее при помощи инклюзивного типа мышле- ния, при этом невозможность познания в полноте вынуждают даоса признать ограниченность человека, неспособность его разума и «языка выразить Абсолют, поскольку каждый раз, когда мы пытаемся выразить словами какой-то аспект жизни или Дао, мы неизбежно разрезаем его, и разрезая, теряем понимание истины, бесконечного, невыразимого» (там же: 138), как гласят и первые строки даосской «библии»: «Дао, выраженное словами, – не есть истинное Дао» (Лао Цзы 2020: 11). Вера в тщетность человеческих аргументов ведет к малословности учителей даосизма, и далее – к значительно меньшему объему корпуса источников учения (в сравнении с конфуцианским наследием), однако противоположно лаконичности вдруг возрастает семантическая насыщенность сказанного, появляются «игры слов», магия парадоксов, чудеснейшая образность: «Если какой-либо китайский мудрец и отличался умением говорить пословицами, то это был Лао-цзы, а не Конфуций. Каким-то образом афоризмы Лао-цзы передают волнение, которого не может достичь конфуцианский банальный здравый смысл» (Линь Юйтан 1948: 4).
Негативным моментом подобного мышления, по мнению автора, является пугающая неопределенность всего, связанная с постоянной изменчивостью Дао: «Ограниченность во всех отношениях – это состояние, которое удерживает нас посередине между двух крайностей. <...> Мы плывем внутри огромной сферы, постоянно дрейфуя в неопределенности. <...> Когда мы думаем привязаться к какой-либо точке, она колеблется и покидает нас; если мы последуем за ней, она ускользнет от нашего понимания, пройдет мимо нас и исчезнет навсегда. Нам ничего не останется. Это наше естественное состояние, но оно в высшей степени противоречит нашим склонностям; поскольку мы горим желанием найти твердую почву и надежный фундамент, на котором можно построить башню, достигающую Бесконечности. Но весь наш фундамент трескается, и земля разверзается в пропасть» (Линь Юйтан 1959: 137).
Писатель называет Лао-цзы «языческим учителем кротости и смирения», проповедовавшим невмешательство, непротивление, который «предостерегал от применения силы не только потому, что не верил в нее, но и потому, что считал применение силы симптомом слабости» (там же: 126), тем не менее и он мог проявлять враждебность по отношению к доктринам конфуцианства, учениям о справедливости, ритуала и т. д. В этом плане воинственным нравом отличился другой учитель даосизма, о котором Линь Юйтан пишет: «Чжуан-цзы – мой любимый. <…> Несомненно, он был величайшим мастером прозы классического Китая; в то же время, по моему мнению, он был величайшим и самым глубоким философом, которого произвел Китай» (там же). Разница характеров «отцов» даосизма демонстрируется на примере их отношения к воде, которая для первого была символом мягкости и добродетели поиска смиренного, а для второго – образом колоссальной, но скрытой силы в покое: «Лао-цзы улыбается, а Чжуан-цзы рычит; Лао-цзы сдержа-нен, Чжуан-цзы – красноречив. Они оба жалеют человеческую глупость, но Чжуан-цзы способен и на едкое остроумие» (Линь Юйтан 1959: 133).
Если в «вертикальном» отношении даосизм рассматривает весь мир и людской род проявлением Великого Дао, то на горизонтальном, «межчеловеческом» уровне, в парадигме «коллективное – частное» даосизм гуманистически утверждает важность последнего: мысли и душа индивида – вот что находится в фокусе внимания. Ну а поскольку жизнь человека имеет смысл уже по факту явления из Дао, следовательно, род его занятий и влияние на общество не могут добавить какой-либо дополнительной значимости, даруя даосу блаженное состояние покоя: «Истинно разумные отбрасывают различия и находят убежище в обычных вещах. Обычные вещи выполняют определенные функции и поэтому сохраняют целостность природы» (там же: 143).
Таким образом, исходя из понимания Линь Юйтаном даосизма, допустимо сделать вывод, что даже если художественное произведение «видимо» имеет отношение к городу, при наличии в нем даосских мотивов оно неизбежно становится частью «деревенской» литературы: через внимание к трансцендентному, сверхъестественному, религиозному или мистическому, в инклюзивном видении всего сущего, говоря же о межчеловеческом – в подчеркивании индивидуального, личного начала; на уровне языка «деревенское» будет отражаться в лаконичности, завуа-лированности слов и многогранности образов, чтобы читатель, следуя за красотой слога, мог лишь догадываться о мыслях и идеях автора, всегда оставаясь в дистанции от познания абсолютного. Примерами подобной литературы можно назвать традиционно даосские произведения Пу Сунлина или Су Дунпо, из современных же писателей – творчество обладателя Нобелевской премии по литературе 2012 г. Мо Яня: его работы крайне по-даосски педалируют индивидуальность «китайского духа» в масштабах людского рода, будь то в содержательной части или витиеватости манеры изложения. Как пишет востоковед С. А. Торопцев: «У него гармонично переплетаются реальность и условность, быт и традиция с ее мифологией и магией, <…> его проза окутана флером абсурдной загадочности» [Торопцев 2013: 9].
«Клубок противоречий»
Примечательно, что мировоззрению Линь Юйтана преимущественно приписывались даосские черты, в качестве подтверждения приводилось внимание писателя к женским образам, акцент на индивидуальном, любовь и тяга к природе (воспоминания детства о горах провинции Фуцзянь, о доме у горы Янмин в пригороде Тайбэя, в саду которого писатель был похоронен в 1976 г.). Исследователь Се Пэйянь пишет, что у Линь Юйтана был «путь развития, отличный от китайского народа и даже китайской интеллигенции того времени, давший ему уникальное представление о китайской культуре. Он один воспринял даосскую культуру, которая была забыта или даже отвергнута в то время, он следовал даосскому духу на протяжении всей своей жизни» [Се Пэйянь 2021: 355]. Один из пионеров континентального линьюйтановедения Чэнь Пинъюань отмечает: «Только благодаря тому, что он ухватился за Лао-цзы и Чжуан-цзы, Линь Юйтан наконец нашел то, в чем он так сильно нуждался – “корне” китайской культуры. Имея основанием даосизм, лишь таким образом Линь Юйтан смог встать на ноги, взглянуть на культуру Китая и Запада, объединить в одно экспрессионизм, теорию души, юмор, досуг и др., создать независимую художественно-теоретическую систему» [Чэнь Пинъюань 1986: 115].
Возможно, «даосские повадки» писателя стали одной из причин его неприятия со стороны современников, в основном «коллег по цеху» из Левого крыла, а также литературоведов, осмыслявших литературу в конфуцианском ключе – в ее социальной дидактической функции. К примеру, критика Линь Юйтана авторитетными и влиятельными Лу Синем, Го Можо, Тянь Ханем и др. часто базировалась на аргументах об «оторванности его творчества от нужд страны, игнорировании им социальных и политических проблем, страсти к изучению наследия феодального Китая и проповеди юмора с досугом вместо призыва к борьбе с несправедливостью» [Цзы Тун 2002: 327]. Литературовед Ху Фэн пишет: «Развитие личности может происходить только после получения определенных предпосылок. Неудача литературного творчества Линь Юйтана произошла именно потому, что он ориентировался на духовность свободы и досуга отдельного индивида, игнорируя социальную основу» [Ху Фэн 1935: 15]. Между тем оглушительный мировой успех книги «Китайцы. Моя страна и мой народ», отъезд с семьей в США в 1936 г. на почти 30-летний срок и переход творчества на английский язык, образование КНР в 1949 г. с сопутствующими идеологическими и культурными преобразованиями, «дружба» Линь Юйтана с Чан Кайши – всё повлияло на то, что он оказался «закрытым» для континен- тального Китая, а изучение его творчества – под неофициальным запретом вплоть до 1979 г.
По иронии, его труды изобилуют конфуцианскими мотивами, с той разницей, что они не ограждаются Великой Китайской стеной, а по-конфуциански, с позиций антропоцентризма, эксклюзивно, говорят о человечестве в целом, о нуждах людей всего мира, поднимая вечные вопросы человека, какой бы национальности он ни был. Линь Юйтан чрезвычайно социально ориентирован: соотечественникам пишет на китайском, для Запада – на английском; впечатляет несовместимый с даосской лаконичностью объем его творческого наследия, масштаб направленности, среди которых художественные сочинения, философские эссе, научные статьи по лингвистике, учебники по педагогике, издание журналов и т. д. В его трудах повсеместно сквозит тема города, даже «главный» его роман, за который он был номинирован на получение Нобелевской премии по литературе в 1975 г., – «Момент в Пекине» – уже в названии вводит образ города. Необходимо подчеркнуть терминологическую точность его определений, он далек от туманных, скрытых смыслов, игры слов, но прямодушен в отношении читателя и желает привести его к пониманию абсолютного. К сожалению, в своей открытости он часто то наталкивался на стену непонимания, то давал обильную пищу для атак критически настроенным литераторам.
Очевидно, творчество Линь Юйтана имеет как даосскую «деревенскую» направленность, так и конфуцианскую «городскую», и любые попытки склонения его к той или иной философской школе Китая могут найти серьезные аргументы против. Данная неопределенность связана с проблемой, прочно закрепившейся в линьюйтановеде-нии и обозначаемой как «клубок противоречий» Линь Юйтана. Суть ее сводится к тому, что представляется чрезвычайно затруднительным определить точку опоры его мировоззрения, сложно сказать что-либо однозначное не только в плане его позиции к конфуцианству или даосизму, но даже на глубинном уровне человеческого сознания, связанного с религией и верой: стал ли он христианином, как утверждает в своей книге-исповеди «От язычника к христианину», или всё же остался язычником?
«Клубок противоречий» писателя также поднимает вопрос о принципах герменевтики: путаница в толковании канонических текстов может возникать в как в результате личного субъективизма исследователей, так и по причине давления исторической данности, которое имело место на всем протяжении истории Поднебесной: «Китайская историография есть грандиозная, фантастическая манипуляция и фактами, и системами» [Алексеев 2002: 468].
Заключение
На основании проведенного исследования можно утверждать, что тезис Линь Юйтана «Конфуцианство – больше городская философия, а даосизм – деревенская» предлагает большое пространство для иного осмысления концептов «города» и «деревни», разделение которых происходит не столько в плане их отношения к природе, цивилизованности или индустриальной развитости человеческих обществ, сколько в фундаментально разном понимании смысла бытия: человекоориентированное конфуцианство стремится создать гармоничное, цивилизованное общество, выделяя и превращая в потенциальный город любое поселение, пусть даже ценой жертвы индивидуального, а даосизм направлен на слияние с природой, на подчеркивание исключительности каждой жизни, и человеческой в том числе, как проявления Великого Дао.
Применительно к литературе присутствующие в произведениях «акциденции» города или деревни в «городском конфуцианстве» играют «позитивную» роль, выполняют «инструментальную» функцию, чтобы герой постиг смысл своей жизни в связи с ними и применительно к ним, через деятельность или отношения с людьми, в конечном счете – ради блага общества и мира. Для «деревенского даосизма» характерно то, что даже при наличии образов города и благ цивилизации они будут служить «отрицательным» фоном, являясь своего рода «испытанием» для героя, чтобы он без связи с чем-либо или кем-либо стремился к постижению великого, безмолвного Дао, и на этом пути в фокусе – лишь его индивидуальность, душа, его чувства и мысли.
Что касается философских предпочтений Линь Юйтана, имеющиеся наработки показывают наличие неясности в данном вопросе: часть аргументов говорят о его «симпатии» к даосизму, но вместе с тем в самом стиле писателя присутствует множество конфуцианских черт. Подобная неопределенность, в соответствии с тезисом «Конфуцианство – больше городская философия, а даосизм – деревенская», делает невозможным установить и «сущность» его художественного творчества: «городское» оно или «деревенское»? Данные трудности являются следствием «клубка противоречий» – проблемы, предел которой литературоведами ограничивается рамками философии. Мы же предполагаем, что ее «корни» находятся глубже философского уровня и сокрыты в религиозном мире Линь Юй-тана, что обусловливает необходмость проведения исследовательской работы с комплексных позиций.