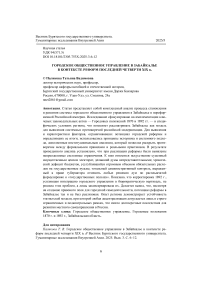Городское общественное управление в Забайкалье в контексте реформ последней четверти XIX в.
Автор: Паликова Т.В.
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой комплексный анализ процесса становления и развития системы городского общественного управления в Забайкалье в пореформенной Российской империи. Исследование сфокусировано на имплементации ключевых законодательных актов — Городовых положений 1870 и 1892 гг. — в специфических условиях региона, что позволяет рассматривать Забайкалье как модель для выявления системных противоречий российской модернизации. Для выявления и характеристики факторов, ограничивавших потенциал городской реформы и определивших ее итоги, использовались принципы историзма и системного под-хода, дополненные институциональным анализом, который позволил раскрыть противоречие между формальными правилами и реальными практиками. В результате проведенного анализа установлено, что при реализации реформы были выявлены непреодолимые системные ограничения. К ним относятся искусствен-но суженный имущественным цензом электорат, делавший думы непредставительными; хронический дефицит бюджетов, усугублявшийся огромным объемом обязательных расходов на государственные нужды; тотальный административный контроль, выраженный в праве губернатора отменять любые решения дум по расплывчатой формулировке о «государственных пользах». Показано, что корректировка 1892 г., усилившая интеграцию городского управления в бюрократическую вертикаль, не решила этих проблем, а лишь законсервировала их. Делается вывод, что, несмотря на создание правового поля для городской самодеятельности, потенциал реформы в Забайкалье так и не был реализован. Опыт региона демонстрирует устойчивость этатистской модели, при которой любая децентрализация допускается лишь в строго ограниченных и подконтрольных рамках, что имело долгосрочные последствия для развития местного самоуправления в России.
Городское общественное управление, Городовые положения 1870 г. и 1892 г., Забайкальская область
Короткий адрес: https://sciup.org/148332046
IDR: 148332046 | УДК: 94(571.5) | DOI: 10.18101/2305-753X-2025-3-6-12
Текст научной статьи Городское общественное управление в Забайкалье в контексте реформ последней четверти XIX в.
Паликова Т. В. Городское общественное управление в Забайкалье в контексте реформ последней четверти XIX в. // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2025. Вып. 3. С. 6–12.
Изучение процессов формирования и функционирования институтов местного общественного управления в пореформенный период Российской империи вызывает значительный научный интерес. Реформы 1870 и 1892 гг. представляли собой не просто административные преобразования, а масштабную, хотя и половинчатую попытку модернизации самой парадигмы управления на местах — переход от патриархально-сословного к рационально-бюрократическому и публично-правовому типу. Анализ имплементации Городовых положений последней четверти XIX в. в специфических условиях Забайкалья позволяет выявить региональные особенности модернизации системы управления, взаимодействия центральной власти и местных сообществ, а также факторы, влиявшие на эффективность муниципального хозяйства. Именно здесь, на окраине империи с ее слабоурбанизированным пространством, отсутствием мощных городских элит и доминированием государственно-военных приоритетов, с предельной ясностью проявились системные противоречия, заложенные в самой логике реформ. В этом контексте Забайкалье является моделью, демонстрирующей, как реформа, потенциально либеральная и прогрессивная, была обречена на угасание в условиях социально-экономической неподготовленности и тотального административного контроля. И в конечном итоге дать ответ на один из центральных вопросов-дилемм российской истории — неспособность центральной власти создать жизнеспособные и самостоятельные институты на местах.
Целью проведенного исследования являлся комплексный анализ становления и эволюции системы городского общественного управления в Забайкалье в последней четверти XIX — начале XX в., выявление его специфических черт, проблем и результатов деятельности в контексте общероссийских реформ. Этот исторический опыт напрямую коррелирует с современными проблемами российского местного самоуправления, которое по-прежнему балансирует между декларируемой самостоятельностью и реальной финансово-политической зависимостью. Реализация обозначенной цели оказалась достижимой в результате применения общеисторических подходов, дополненных институциональным для анализа столкновения формальных правил (законы) с неформальными практиками (например, нежелание купцов участвовать в выборах, вмешательство губернатора) и рядом методов от историко-генетического, историко-сравнительного до историко-типологического, позволивших проследить этапы реформы, выявить особенности развития городского общественного управления в разных городах региона, классифицировать полученные данные (архивных источников, официальной документации) и реконструиировать практики реализации законодательных норм.
Реформа городского общественного управления 1870 г., знаменовавшая исторический переход от сословных привилегий к всесословному принципу организации публичной власти на местах, поэтапно внедрена в городах Забайкалья к 1875 г., в связи с этим был выявлен комплекс проблем, обнаживших глубинные противоречия российской модернизации. Новое Городовое положение создало современную законодательную базу для деятельности муниципалитетов, определив их компетенцию, источники финансирования и структуру. Ключевой институт — бессословная городская дума, избиравшаяся на 4 года, с самого начала поставлен в условия, девальвировавшие его потенциал. Избирательное право, основанное на имущественном цензе и цензе оседлости, предоставлялось мужчинам старше 25 лет, что формировало крайне узкий электорат, разделенный на три разряда (курии). Это не столько создавало основу для представительства, сколько концентрировало власть в распоряжении незначительной, преимущественно купеческой, прослойки, а имущественный ценз в бедных регионах, каковым и было Забайкалье, можно интерпретировать не столько инструментом отбора компетентных элит, сколько механизмом искусственного создания малой группы «управленцев», которая не могла быть репрезентативной.
При процедуре внедрения реформы выявлен ряд системных проблем. Даже в таких ключевых центрах, как Верхнеудинск, Троицкосавск и Чита, количество избирателей было невелико, а явка — крайне низкой, что свидетельствовало как о слабости городских элит, так и об индифферентности населения к новому институту, но, что более важно, было симптомом фундаментального несоответствия импортированного института и местной социальной реальности. Сложная процедура голосования и низкая политическая культура были не причиной, а следствием: государство «спустило» реформу сверху, не создав условий для формирования настоящей общественной потребности в ней. Выборы превращались в корпоративное делегирование среди крошечной группы богатых собственников, что порождало кумовство и коррупцию (пусть и единичный, но яркий пример — «партия мясников» А. В. Овсянкина (Верхнеудинск, 1888 1 )). Государство, создав такую систему, получило не самостоятельные органы, а «собрание элиты», легко управляемое через губернатора, на что собственно и рассчитывало.
Социальный состав дум демонстрирует несколько «субмоделей» социального тренда, определявшихся статусностью, людностью, финансовыми возможностями: Троицкосавск/Кяхта, где и в начале XX в. все еще сохранялось незначительное превосходство купечества; Чита, где первоначально доминировавшее купечество (56,6%) к началу XX в. постепенно замещалось чиновниками; Верх-неудинск, где мещанство со-действовало с купечеством, постепенно уступавшим первому и чиновничеству; малые города области, где преобладало мещанство, но купечество оказывало значительное влияние на развитие города. Первая субмодель свидетельствует о сохранившихся первоначальных задачах, вторая — о смене управляющих элит на более зависимые от государственной вертикали, последние — о сохранении относительно демократического состава органов управления при увеличивавшейся прослойке чиновников. Корректировка реформы в 1892 г. была направлена на упрощение избирательной системы (введение одного избирательного собрания) и ужесточение государственного контроля. Это отражало стремление центральной власти к большей управляемости и интеграции муниципалитетов в вертикаль власти.
Образовательный уровень гласных был невысок: лишь около половины имело какое-либо школьное образование. Средний возраст гласных составлял около 50 лет, что, с одной стороны, гарантировало практический опыт, а с другой — ограничивало инновационный потенциал управления. Исполнительная власть осуществлялась городской управой во главе с городским головой, который обладал значительными полномочиями. Назначение городского головы и членов управы государственными служащими по Положению 1892 г. стало логичным завершением этой тенденции, окончательно встроив исполнительные органы общественного управления в бюрократическую иерархию и усилив административный контроль.
Финансовая база городского общественного управления была слабой, усиленной структурным дисбалансом, заложенным законодательно. Хроническая слабость доходной основы, опиравшейся на сборы с недвижимости и промыслов (при отсутствии собственного производительного основания), усугублялась давлением со стороны государства. Последнее выражалось прежде всего в том, что значительную часть городских бюджетов (до 50% и более) поглощали обязательные расходы на содержание государственных институтов (полиции, администрации, воинского постоя, которые государство было обязано восполнять, но сам процесс затягивался иногда на несколько лет), что можно рассматривать как скрытый налог муниципалитетов в пользу казны. Это систематически лишало города средств на ключевые нужды — благоустройство, образование и здравоохранение, превращая думы из органов развития в фискальные единицы по содержанию государственной инфраструктуры. Показательно, что попытки найти конструктивные источники дохода (например, городские общественные банки) либо заканчивались полным провалом (Верхнеудинск), либо давали нестабильные результаты (Нерчинск), что лишь подчеркивало экономическую незрелость городской среды и крайне малую емкость городского рынка.
Все это происходило в условиях всеобъемлющего контроля со стороны государственной власти. Губернатор имел право приостанавливать любые решения думы, если считал их противоречащими государственным интересам, причем эта формулировка (статья 86 Положения 1892 г. о приостановке решений, противоречащих «государственным пользам и нуждам») была крайне расплывчатой, обесценивая саму идею самостоятельности (законодательно не гарантирована). Губернатор фактически превращался из арбитра в абсолютного цензора, что законно безгранично расширяло возможности «инструмента контроля», основанного на субъективном мнении высшего чиновника. Из представителей города городской голова, став государственным служащим, превратился в низшего агента центральной власти, а гласные — в подотчетных чиновников. Надзор полиции за исполнением думских постановлений лишь завершал картину, где об- щественное управление было не правом, а разрешенной и строго регламентированной обязанностью.
Примечательно, что параллельно с этим государство сохраняло и поддерживало сословные институты — мещанские и купеческие управы, которые выполняли важные социально-фискальные функции: вели списки членов сословия, собирали налоги, занимались благотворительностью, содержали учебные заведения и богадельни. Эта двойственность красноречиво свидетельствует, что центральная власть не стремилась к созданию единого городского сообщества, предпочитая управлять разрозненными и подконтрольными корпорациями. Закон 1892 г. восстановил связь между городским и сословным управлением в малых городах, что может рассматриваться как возвращение к проверенной модели опеки. Всесословная дума была лишь фасадом, за которым сохранялась старая, проверенная система сословного управления.
Становление городского общественного управления в Забайкалье в последней четверти XIX — начале XX в. представляло собой сложный и противоречивый процесс. Несмотря на законодательное оформление, при его реализации были заметными существенные ограничения: узкая социальная база, финансовая слабость городов, низкая гражданская активность и жесткий административный контроль. Иными словами, попытка импортировать западную модель управления в почву, абсолютно для этого не подготовленную, изначально была обречена. В то же время городская реформа, безусловно, создала правовое поле для городской самодеятельности и сформировала первый опыт публичной политики на муниципальном уровне. Однако модернизационный потенциал реформы был изначально ограничен не столько региональной социально-экономической отсталостью, сколько фундаментальным противоречием между декларируемой самостоятельностью и реальными механизмами удушающего контроля. Корректировка 1892 г., упростив избирательную систему, но ужесточив административную опеку, окончательно закрепила эту модель. Государство, с одной стороны, пыталось переложить бремя городского хозяйства на местные сообщества, а с другой — патологически боялось утратить над ними контроль. Это противоречие пронизывает все аспекты: от избирательной системы до финансов. Деятельность органов городского управления скорее напоминала героические усилия по латанию дыр в условиях хронического дефицита и ограничений, нежели последовательное и стратегическое развитие.
Города Забайкалья так и не стали в полной мере субъектами управления. Они оставались объектами административного воздействия, обязанными содержать государственный аппарат на местах, но лишенными реальных прав и ресурсов для самостоятельного развития. Пример взаимодействия центральной власти и местных сообществ в Забайкалье показывает, что это был не диалог, а жестко регламентированная опека, где губернаторская власть выступала не партнером, а надзирателем. Факторы, влиявшие на эффективность муниципального хозяйства, оказывались не внешними обстоятельствами, а прямым следствием законодательных ограничений.
Этот исторический прецедент демонстрирует глубокую устойчивость этатистской модели в России, при которой любая децентрализация воспринимается властью как угроза и потому либо жестко ограничивается, либо быстро откатывается назад. Опыт Забайкалья наглядно показывает, что без подлинной финансовой самостоятельности и защиты от административного произвола любые институты самоуправления обречены оставаться декоративным придатком мощной государственной вертикали, а их потенциал — так и не реализованным в силу столкновения с непреодолимыми экономическими, политико-правовыми и социокультурными барьерами.
Тем не менее, несмотря на все трудности, органы общественного местного управления сыграли ключевую роль в улучшении городской инфраструктуры и развитии социальной сферы, заложив основы для дальнейшего развития городского общественного управления в регионе.