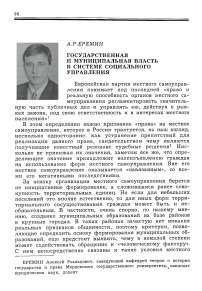Государственная и муниципальная власть в системе социального управления
Автор: Еремин Алексей Роальдович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Территориальное управление
Статья в выпуске: 1-2 (42-43), 2003 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются взаимоотношения государственных и муниципальных органов в территориальном управлении нижнего уровня (малые населенные пункты).
Короткий адрес: https://sciup.org/147222061
IDR: 147222061
Текст научной статьи Государственная и муниципальная власть в системе социального управления
Европейская хартия местного самоуправления понимает под последней «право и реальную способность органов местного самоуправления регламентировать значитель ную часть публичных дел-и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения»1
В этом определении важно признание «права» на местное самоуправление, которое в России трактуется, на наш взгляд, несколько односторонне: как устранение препятствий для реализации данного права, свидетельством чему являются получившие известный резонанс судебные решения2. Нисколько не принижая их значения, заметим все же, что определяющее значение принадлежит волеизъявлению граждан на использование форм местного самоуправления. Вне его местное самоуправление оказывается «навязанным», со всеми его негативными последствиями.
За основу организации местного самоуправления берется не инициативное формирование, а сложившаяся ранее совокупность территориальных единиц. Но если для небольших поселений это вполне естественно, то для иных форм территориального сосуществования граждан может быть и необязательным. В частности, очень спорно, по нашему мнению, создание муниципальных образований на базе районов в крупных городах. В таких районах зачастую нет никаких реальных признаков общинности, поэтому критерии, позволяющие определить основу формирования муниципальных образований, еще предстоит выявить, чему в немалой степени может содействовать обращение к «человеческому фактору». С ним непосредственно связаны и такие условия местного
ЕРЕМИН Алексей Роальдович, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Мордовского государственного университета,*кандидат юридических наук, доцент.
самоуправления, как «собственная ответственность» и «публичные дела». Можно предположить, что для самоуправления это должно означать достаточно осознанное определение пределов такой позитивной ответственности, а соответственно и объема разрешаемых общиной самостоятельных публичных дел. Между тем ст. 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ выстраивает предметы ведения местного самоуправления (вопросы местного значения) по унифицированной для всей страны схеме, возлагая решение данных вопросов на местное самоуправление. Конечно, в какой-то мере это компенсируется рядом гарантий для местного самоуправления, однако в целом какая-либо инициативность в определении объемов самоуправления отвергается. Альтернативность просматривается только в отношении передачи органам местного самоуправления отдельных «государственных полномочий».
Возникает закономерный вопрос о том, каков же объективно категориальный баланс между государством и местным самоуправлением, каков смысл конституционной фразы (ст. 12) о том, что «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти»?
Чрезвычайно интересный повод для размышлений на данную тему предоставил Конституционный суд РФ в Постановлении «По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. JO системе органов государственной власти в Удмуртской Республике**» от 24 января 1997 г. № 1-П. Не менее интересны и особые мнения судей Г.А.Гаджиева и Н.В.Витрука3
В этих документах по центральному пункту спора (уровню организации местного самоуправления) изложены различные позиции, но при этом их мотивы сводятся исключительно к интерпретации сложившейся ситуации с точки зрения действия законодательства, соотношения его иерархических рангов, но не обоснования, так сказать, «исконной правомерности» соотнесения местного самоуправления с определенным уровнем организации публичной власти. Можно сказать, что такая плоскость рассуждений не является функцией Конституционного суда. Однако обращает на себя внимание один из пунктов постановления. В нем записано: в ст. 74 Конституции Удмуртской Республики «перечислены районы и города республиканского подчинения, которые непосредственно входят в состав Удмуртской Республики в качестве ее адми- нистративно-территориальных единиц. Территориальные единицы иного уровня, а именно: город районного подчинения, другие городские и сельские поселения в районах, а также прочие городские поселения (части города, его районы, жилые комплексы) в городах республиканского значения не имеют такого статуса. Поэтому не могут быть созданы органы представительной и исполнительной государственной власти таких территориальных единиц. На этом уровне публичная власть осуществляется посредством местного самоуправления и его органов, не входящих в систему органов государственной власти».
Процитированный пункт постановления кажется предельно ясным, но только на первый взгляд, ибо никаких аргументов в пользу того, что административно-территориальные единицы обладают статусом носителей государственной власти, Конституционный суд не приводит. Более того, его решение по сути дела оправдывает существование, в примерно равных по территории и структуре субъектах федерации, административно-территориальных единиц различного статуса. Это доказывает, на наш взгляд, что определение уровня местного самоуправления является сегодня в Российской Федерации лишь «формально-законодательным», а искомый баланс между государственной властью и местным самоуправлением не просто не апробированным, а категориально необеспеченным в отношении социально-территориального субстрата единиц местного самоуправления.
Организация местного -самоуправления, как она представлена в российском законодательстве, вполне соответствует организационной форме и методам осуществления государственной власти. В Конституции РФ (ч. 2 ст. 3) указано, что «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Одновременно ч. 2 ст. 130 регламентирует: «Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления». Как видим, Конституция РФ не делает принципиальных различий между формированием и учреждением государственной власти, с одной стороны, и муниципальной власти — с другой. Это естественно, поскольку и в том, и в другом случае действуют однородные по своим основным характеристикам субъекты, а осуществление власти задается лишь допустимыми с определенных политических позиций технологиями.
«Слитность» государственных и муниципальных начал доказывается специальными исследованиями, посвященными одыту стран, в которых муниципальные системы функционируют уже достаточно долгое время. В одной из публикаций, в частности, отмечается, что «...за последние годы было разработано и применено множество новых концепций региональной политики, и это сделано с разными целевыми установками. При всем разнообразии все же выделяется один основной признак. Субъекты регионального уровня нуждаются в развитии своего региона и должны участвовать в этом развитии. Однако в реальности вопреки этим концептуальным установкам и политическим программам, например, программе Европейского сообщества, наблюдается тенденция к централизации региональной политики. Кроме того, как раз в рамках региональной экономической политики в узком смысле имеет место все более тонкое регулирование государственного вмешательства в региональное хозяйство, начиная от _ уровня общественной задачи „улучшения регионально-экономической структуры’' и вплоть до европейской региональной политики»4.
Процитированное весьма важно, на наш взгляд, в том отношении, что параллельное функционирование государственной и муниципальной власти оценивается не по формальным (логическим и юридическим) признакам, а в свете реального сосуществования соответствующих публичных структур. Опыт доказывает, что представление о государственности и местном самоуправлении как принципиально различных «публичностях» является или совершенно неверным, или, по крайней мере, неадекватным возможностям современной общественной организации, поэтому реальная организация «местной власти» не является чем-то «внегосу-дарственным». И если все же говорить об обосновании местного самоуправления, то только в том плане, в каком протекает поиск оптимальных для современного государства форм организации местной власти.
Деятельность муниципий даже в регламентированных законом пределах в конечном счете оказывается лишь относительно самостоятельной и независимой от государственных структур. Это доказывает сама регламентация, инициируемая государством. Институт конституционных прав и свобод граждан действует вне разделения на территориальные муниципальные образования, а ресурсная база местной власти определяет действительные возможности осуществления данной власти. *
Наиболее адекватно современным условиям отвечает дуалистическая теория муниципального управления и рассмотрение муниципий в качестве составляющих государственного механизма5, но этого достаточно для выбора актуальной политики в отношении муниципальных образований и недостаточно для онтологической схемы возникновения и развития соответствующей общественной тенденции. В части же последнего представляется, что современная муниципализация есть объективная реакция на исторически развивавшуюся централизацию (или огосударствление) публичной жизни, одновременно совпадающая с констатацией нарастающей неспособности государства разрешать значительную часть вопросов публичной жизни в централизованных формах, включая ответственность за разрешение данных вопросов. Тема местного самоуправления применительно к реальным, а не утопическим ее аспектам, не только берет в государственности свое начало, но развертывается целиком внутри государственности. И не случайно проблема местного самоуправления не только во многих доктринально-теоретических и аналитико-прагматических работах, но и в самой общественной практике совпадает с вопросом децентрализации государственного (или публичного) управления.
Необходимо осознавать наличие наряду с делегированием или деконцентрацией еще и другой ветви децентрализации, которая вполне эффективна может быть описана, например, следующим образом: «административная организация называется децентрализованной, если наряду с общегосударственными органами власти существуют другие общественные юридические лица, имеющие право принятия ряда решений административного характера и обладающие относительно широкой автономией в отношении государственных органов власти»6
Приведенная дефиниция приближает к пониманию местной (муниципальной) власти. Однако только ее недостаточно, чтобы отразить конфликты, которые возникают в Российской Федерации по поводу функционирования власти на местах. Во-первых, централизация «привязывается» к естественно-сложившимся общностям людей, объединенным в поселения. «Наиболее значительные из таких юридические лица и единственные в полном смысле слова независимые от „центра" имеют конкретную географическую базу, вследствие чего называются территориальными коллективами (или местными коллективами). Департаменты, общины а также округа* явля- ются территориальными коллективами»7 Но отсюда следует, что и проблемы определения «уровня местного самоуправления» просто не существует: любая внутригосударственная территориальная организация является ступенью внутригосударственной децентрализации. В России ситуация «осложняется» наличием субъектов федерации. В остальном же налицо все основания рассматривать любую территориальную единицу как ступень непрерывной децентрализации.
Во-вторых, нельзя отрицать наличие во внутригосударственных территориальных единицах «самоуправленческих» начал в том смысле, что формирование органов территориальных единиц происходит самостоятельно и при определенном саморегулировании соответствующих процедур. Это же относится и к местным референдумам. И хотя данные процедуры в сущности воспроизводят общегосударственные, они все же могут оцениваться как «самоуправленческие» (или автономные) по отношению к государственному целому.
В-третьих, та же самоуправляемость определяется посредством наделения внутригосударственных территориальных образований собственными предметами ведения и компетенцией органов этих образований. Другой вопрос — насколько неподконтрольно осуществление компетенции органами таких образований, поскольку в этом главным образом и концентрируется самоуправляемость. Самостоятельная же компетенция представляет собой воспроизводство общих признаков организации.
В-четвертых, оставляя в стороне проблему ресурсной неравномерности внутригосударственных территориальных образований, надо признать, что на автономность соответствующих единиц серьезно влияет их собственная материальнофинансовая база.
В-пятых, особенное значение следует придавать низшему уровню децентрализации, реализуемому в отдельных населенных пунктах, сколь бы различны они ни были. Специфика этого уровня заключается в том, что управление выступает здесь как «беспромежуточное», т.е. это последнее звено публичного управления по отношению к управляемым объектам и по сути дела «исполнение» решений (в том числе законов), принимаемых на вышестоящих ступенях управления. Но здесь возникает «точка напряженности» вследствие того, что, с одной стороны, наибольшие возможности для развития самоуправленческих начал, с другой — наименьший объем самостоятельности публичной деятельности в плане опреде*- ления ее параметров. Следовательно, на уровне отдельных населенных пунктов и должны, на наш взгляд, концентрироваться усилия по развитию муниципальной власти.
Можно предположить, что идеи существования местного самоуправления как самостоятельной внегосударственной инстанции будут концентрироваться в направлении преодоления отрицательных черт государственности. Один из отечественных авторов отмечает, например, что в институте местного самоуправления общество «через государство резервирует себе избранную линию развития. Не зная еще в чем конкретно может выразиться реальное самоуправление людей в реальном разрезе, общество уже сегодня закладывает такое юридическое понимание, которое бы не сковывало инициативу людей, делало бы именно их, а не властные структуры, имеющие даже на местном уровне фактически государственную природу, главным компонентом местного самоуправления»8. Но для этого, добавим, необходим и иной категориальный строй местного самоуправления, в основе которого лежит не патерналистский подход, а реально осуществимые права и свободы, реализация которых поможет преодолеть затянувшийся спор об оптимальном соотношении государственных и муниципальных начал в управлении публичными делами на низовом территориальном уровне.
Список литературы Государственная и муниципальная власть в системе социального управления
- Собрание законодательства РФ. 1998. № 15. Ст. 1695.
- Государство и право. 1995. № 7. С. 12-18.
- Государство и право. 1997. № 5. С. 708.
- Шпель Г. Классификация концепций региональной экономической политики//Местные власти и рыночная экономика. Уроки западно-европейского опыта. СПб., 1996. С. 53-54.
- Муниципальные системы в странах Восточной Европы: конституционные аспекты. Научно-аналитический обзор. М., 1994. С. 4-11.
- Гримо Ж. Организация административной власти во Франции. М., 1994. С. 17.
- Краснов М.А. Введение в муниципальное право. М., 1993. С. 7-8.