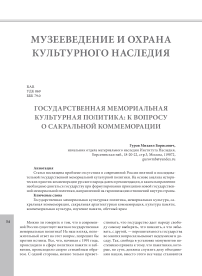Государственная мемориальная культурная политика: к вопросу о сакральной коммеморации
Автор: Гуров Михаил Борисович
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме отсутствия в современной России внятной и последова- тельной государственной мемориальной культурной политики. На основе анализа истори- ческих практик коммеморации русского народа даются рекомендации, в каком направлении необходимо двигаться государству при формулировании принципов новой государствен- ной мемориальной политики, направленной на гармонизацию отношений внутри страны.
Государственная мемориальная культурная политика, мемориальная культура, са- кральная коммеморация, сакральная архитектурная коммеморация, культура памяти, коммеморальная культура, изучение памяти, обетный храм
Короткий адрес: https://sciup.org/170174157
IDR: 170174157 | УДК: 069
Текст научной статьи Государственная мемориальная культурная политика: к вопросу о сакральной коммеморации
Можно ли говорить о том, что в современной России существует внятная государственная мемориальная политика? На наш взгляд, положительный ответ на этот вопрос, погрешил бы против истины. Все, что, начиная с 1991 года, происходило в сфере политики памяти и забвения, происходило скорее стихийным образом. С одной стороны, можно только привет- ствовать, что государство дает народу свободу самому выбирать, что помнить, а что забывать, с другой, — нерешительность государства во многих вопросах вызывает недоумение и досаду. Так, свобода в установке монументов постепенно привела к тому, что памятники, которые, по сути, должны служить делу объединения нации, вместо этого все чаще становятся источниками роста социальной и межэтнической напряженности. Достаточно вспомнить мемориал «Донские казаки в борьбе с большевизмом», воздвигнутый в станице Еланской в Ростовской области в 2007 году, памятник чеченским женщинам, открытый в 2013 году на въезде в село Шангаш-Юрт, памятник Ивану Грозному, открытый в 2016 году в Орле, и многие другие. Государство так до сих пор и не определилось, что делать с монументальными памятниками советской эпохи, как поступить с мумией вождя пролетариата на Красной площади, до сих пор так и не сформулировало свою позицию в отношении возвращения исторических названий городам и улицам. Недостаток внятной и последовательной государственной мемориальной политики ощущается все острее. Государство должно наконец-то сформулировать правила игры. Государственная мемориальная политика должна быть, и она, в первую очередь, должна быть направлена на гармонизацию отношений внутри страны, на преодоление внутренних исторических изломов. На наш взгляд, среди явлений увековечивания памяти есть как минимум одно, которое могло бы помочь в решении этой задачи и которое государство может и должно безоговорочно поддержать.
Если говорить о культуре памяти русского народа, то надо отметить, что на протяжении многих сотен лет основной практикой коммемо-рации была сакральная коммеморация — практика постройки обетных храмов, монастырей и часовен, установка обетных и поклонных крестов. Это могли быть обетные постройки, связанные с каким-либо важным военным событием, например, с победой в битве или взятием города, а могли быть и постройки, связанные с избавлением от неминуемой гибели, постройки поминального характера, княжеские и царские постройки, связанные с дарованием наследника и др. Так, по свидетельству, летописи князь Мстислав Удалой в честь своей победы над ко-сожским князем Редедей строит в Тмутаракани церковь, великий князь московский Дмитрий Донской, давший перед битвой на Куликовом поле обет построить в случае победы монастырь, после битвы исполняет обещанное и возводит в Коломне Бобренев Богородице-Рождествен-ский монастырь. В Москве в память о Куликовской битве строятся Собор Рождества Богородицы в Рождественском монастыре, церковь Всех
Святых на Кулишках и церковь Рождества Богородицы в Кремле1. В честь взятия Смоленска великий князь Василий III воздвигает в Москве церковь Происхождения древ честнаго Креста Господня и всемилостивого Спаса на рву, а его сын, Иван Грозный, отправляясь в Казанский поход, дает обет, в случае победы построить в Казани церкви, что он и сделал, построив в покоренном городе церковь священномученика Киприана и мученицы Иустины, церковь Воскресения Христова, церковь Покрова Божьей Матери, церковь Спаса Нерукотворного, церковь Дмитрия Солунского и другие2. В память о казанском походе в Москве построен и храм Покрова Пресвятой Богородицы на Рву.
В честь чудесного избавления от гибели во время шторма на Кубенском озере белозерский князь Глеб Василькович воздвигает на острове, к которому прибило его ладью, Преображенский собор. В 1360 году после возвращения из Византии в Москву митрополит Алексей основывает в столице Спасо-Андроников монастырь — в благодарность за избавление от бури на море, в которую он попал на обратном пути. Церковь Вознесения в Коломенском также является обетной, связанной с молением царя Василия III о даровании ему наследника. И примеров таких обетных храмов русская история знает великое множество.
Великое множество храмов и монастырей основаны и в память о смерти. Смерть как память — один из наиболее повторяющихся мотивов русской мемориальной культуры на всем протяжении ее истории. Церкви чаще всего ставились на погостах, а если и не так, то некрополи сами собой возникали вокруг церквей. Погост являл собою малое мироздание: живых, которые молятся за себя и за своих умерших Богу и святым, мертвых, которые нуждаются в молитве и горний мир, являющийся через богослужение и церковную живопись. Одним из самых известных «поминальных» монастырей является Спасо-Бородинский женский монастырь, воздвигнутый тщанием вдовы генерал-майора А. А. Тучкова, погибшего на Бородинском поле, а самым известным храмом подобного рода — храм Христа Спасителя в Москве. Поминальным храмом является и знаменитый Спас-на-Крови в Санкт-Петербурге, построенный на месте убийства государя-императора Александра II. Храмы-памятники воздвигаются на полях сражений и спустя много сотен лет после памятных событий. Примером тому может служить каменный храм преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле, заложенный в 1913 году.
Сойдя на нет в советское время, практика сакральной коммеморации и возведения памятных храмов с новой силой заявила о себе в современной России. Достаточно вспомнить мужской монастырь святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме, храм святых Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне, церковь Святителя Николая в Повен-це на берегу Беломоро-Балтийского канала, построенную в память обо всех погибших при его строительстве. В народной среде практика сакральной коммеморации выражалась в возведении обетных часовен и крестов, множество которых до сих пор сохранилось в труднодоступных и малонаселенных местах на Русском Севере3. Не имея возможности строить храмы небогатые люди и крестьянские общины, давали и исполняли посильные им обеты. В новейшее время традиция установки поклонных и придорожных крестов переживает бурное возрождение: поклонные кресты как памятные знаки активно воздвигаются на местах разрушенных в советские время монастырей и храмов, придорожные кресты стоят на въезде во многие поселения.
Во времена Петра I, наряду с сакральной коммеморацией, появляется коммеморация государственническая, идущая от государства и во славу государства. Так в 1709 году Петр Великий издает указ увековечить победу русской армии над шведами в полтавском сражении: «в знак и вечное напоминание той преславной виктории, на том самом месте, где тот бой был, а именно неподалеку от Полтавы, построить монастырь мужеский и в нем церковь камен- ную во имя святых верховных апостолов Петра и Павла, да нижнюю преподобного Сампсона странноприимца, на которого память та преслав-ная виктория получена; а пред церковию сделать пирамиду каменную со изображением на ней персоны его, государевы, в совершенном возрасте на коне, вылитую из меди желтой, а под нею бой, самым добрым художеством; а по сторонам той пирамиды на досках медных же учинить подпись со объявлением всех действ от вступления в Украину того короля шведского и с получением сей баталии»4. Необходимо обратить внимание, что в указе 1709 года новая государственническая коммеморация идет параллельно с традиционной практикой увековечивания памятных событий в виде строительства храмов и монастырей, как бы в дополнение к ней. Однако, этот указ государя так и не был исполнен. В 1723 году Петр снова издает указ об установке памятного знака на Полтавском поле в виде каменной пирамиды. И снова указ остается только на бумаге. При жизни Петр так и не увидел ни одного подлинного монумента нового типа, хотя временные памятники в ознаменование военных побед при нем воздвигались5. Первый настоящий памятник появляется в России только в царствование императрицы Екатерины II. Это знаменитый Медный всадник. Указ «О постройке монумента в славу блаженныя памяти государя императора Петра Великого на площади между Невы реки, адмиралтейства и Сената» был объявлен Сенату 5 мая 1768 года. Сам памятник был открыт в 1782 году и положил в России начало новому типу коммеморации.
Возведение монументов и памятников в императорской России довольно долго не встречало особого сочувствия в народной среде и оставалось уделом императорской фамилии и немногочисленной европеизированной части русского общества. По словам генерала М. И. Кияновско-го, автора очерка «Русские военные памятники», который был опубликован в «Военном обозрении» в 1905 году, «только в царствование императора Александра в обществе начались подписки на такие памятники, как «Куликово поле», «Полтава», «Минину и Пожарскому», Храм Христа
Спасителя»6. А. В. Святославский, описывая сосуществование двух форм коммеморации, новую и традиционную, замечает, «еще век девятнадцатый оставил нам немало драматических примеров столкновения древней и новой традиции, когда последняя порой ощущалась как чуждая православию как таковому»7. На это же обращает внимание и К. Г. Сокол. К примеру, после крушения в 1888 году императорского поезда под Харьковом по всей стране были воздвигнуты сотни часовен и церквей, но когда в 1910-ых годах началась массовая установка монументов в память об императоре Александре II, она натолкнулась на народное недоумение. В белорусской глубинке даже были выступления, люди считали, что лучшим памятником царю будут новые храмы8.
Таким образом, несмотря на достаточно активные усилия государства пересадить на русскую почву европейские элементы коммемораль-ной культуры, русское общество в глубине своей оставалось предано сакральной коммеморации. Многочисленные памятные храмы и часовни, возведенные в современной России, подтверждают, что практика сакральной коммеморации находит в обществе отклик даже после долгих десятилетий советской власти, за которые успели вырасти и смениться несколько поколений. Несомненно, существуют механизмы неосознанной трансляции коллективной памяти от поколения к поколению, которые обеспечивают воспроизводимость тех или иных культурных практик вне зависимости от общественной конъюнктуры и государственного заказа. «Гены культуры, — пишет Э. А. Шулепова, — обладают высокой устойчивостью и продолжают жить в новом организме культуры даже тогда, когда все вокруг них во времени и пространстве коренным образом меняется»9. И если можно говорить о культурном коде, о социокоде той или иной культуры, о ее «генотипе», то этот конкретный православный геном русской культуры, обеспечивающий существование и воспроизведение сакральной коммеморации даже через поколения, должен быть признан глубинным и фундаментальным.
Характеризуя культуру памяти русского народа, А. В. Святославский, говорит «о формировании на Руси собственной православной мемориальной традиции»10, которую, в отношении объектов материальной среды, можно, на наш взгляд, назвать сакральной архитектурной ком-меморацией. Он определяет понимание памяти в этой традиции словами священника Владимира Лапшина: «память в древне-церковном литургическом понимании есть обращенность Бога к творению. Отсюда литургические поминовения: не мы вспоминаем таких-то, а просим Бога не оставить памятью»11, то есть, просим Бога, помнить о нас. Вся практика увековечения памяти в допетровской Руси (а во многом и в послепетровской) — это воплощенная в архитектуре история обращений к Богу с просьбой не оставить памятованием людей своих и свидетельств о том, что Бог их не оставил. И если культура памяти, по словам все того же исследователя, «служит передаче социально значимых ценностей из прошлого в будущее»12, то храмовая мемориальная архитектура — это ценностный завет прошлых поколений поколениям будущим. Именно эту выраженную зримо, камнем или деревом, историю Божьего промысла о народе наши предки хотели передать своим потомкам. Почему именно архитектурно? Потому что таковым было эстетическое восприятие русского человека. «И словесный образ, — пишет крупнейший исследователь русской эстетики В. В. Бычков, — и живописное изображение одинаково высоко ценились на Руси. Однако живопись и зодчество нередко возводились средневековым русичем выше слова, как более конкретные, материальные, связанные с видимыми затратами труда явления, как реальное дело»13.
Причем важно отметить, что связь между событием и памятной сакральной постройкой — не формальная. Храм никогда не был просто символическим монументом, как стелла или памятная табличка. Нельзя сказать, что раньше в па- мять о событиях воздвигали храмы, а со временем просто поменялась форма, и вместо храмов стали ставить каменные, бронзовые, гипсовые изваяния и монументы. Нет — поменялась суть. Связь между событием и возведением сакрального сооружения всегда была глубинной. Алтари посвящались тем святым, молитвы которым были услышаны, тем праздникам, в дни которых было даровано искомое. Таким образом, продолжала писаться священная история и люди еще на своем земном пути вписывали в нее свои имена. И не только свои. Фактически они вписывали в священную историю историю своего народа, неразрывно связывали с ней еще ненаписанную историю своих детей и внуков. Важнейшее отличие сакральных памятных построек от светских монументов — в их молитвенном наполнении. Молитва есть соборное действие, и, как соборное действие она не только объединяет друг с другом живых, но и единит живых с мертвыми. И в этом смысле сакральные памятные постройки — подлинные памятники памяти, потому как в акте соборной молитвы объединяют весь народ на протяжении всей его истории. Но таковыми они являются только когда живут своей подлинной жизнью, то есть когда в них совершается богослужение.
В советское время мемориальная культура была поставлена под полный контроль государства и молодая советская республика уделяла этому вопросу достаточно пристальное внимание. Уже в 1918 году вышло Постановление Совета Народных Комиссаров «Об утверждении списка памятников великим людям». Комиссариату народного просвещения поручалось «немедленно начать приводить в исполнение постановку памятников»14. Дальнейшая политика советской власти в отношении памятников и исторической памяти хорошо известна. Разрушались церкви, демонтировались памятники, воздвигнутые в эпоху империи, активнейшим образом шла работа по деисторизации, секуляризации и советизации топонимики. По всей стране ставились памятники В. И. Ленину и другим революционным деятелям. Характеризуя мемориальную политику советской власти, А. В. Святославский отмечает, что она свела мемориальную культуру к банальной пропаганде. По его славам, «произошло невиданное доселе (хотя отчасти имев- шее место прежде) развитие мифологизатор-ской функции памятника, почти вытесняющей собственно мемориальную функцию. Памятник в широком смысле (и городской монумент в первую очередь) стал средством важнейшей идеологической акции новой власти по созданию своего рода виртуальной реальности, когда истинный образ исторической личности, донесенный во всей внутренней сложности и противоречивости, подлежал замене на утвержденный штамп, обескровленный, а часто, по существу, слепленный заново как своего рода идеологический эрзац, предназначенный для усвоения народными массами»15.
Однако, помимо явно деструктивных элементов советской мемориальной политики необходимо отметить и черты ее исторической преемственности по отношении к предшествующей ей мемориальной традиции. Речь идет об особом внимании к военной истории. Мемориали-зация памяти о военных событиях — сквозная черта русской мемориальной культуры на всем ее протяжении, и советское государство, в данном случае, оказалось исключительно консервативным. Утратилась сакральная суть памятников, изменилась их внешняя форма, но тематика, в данном конкретном случае, была сохранена. Возможно, это происходит по той причине, что для русского народа и народов, населяющих Россию, государство всегда было одной из высших ценностей, и поэтому памятники, связанные с его строительством или с историей его защиты, вне зависимости от их формы, всегда находили положительный отклик в коллективной народной памяти.
Какие выводы в приложении к современной государственной мемориальной политике можно сделать из всего вышесказанного?
Во-первых, на наш взгляд, государство должно обратить внимание, на возрождение в народной среде практики сакральной архитектурной коммеморации и поддержать этот процесс. Возрождение традиции постройки мемориальных храмов в честь знаковых событий — разумное и правильное направление государственной культурной политики. Например, такое событие как возвращение Крыма в состав России вполне могло бы быть осмысленно со- временной культурой архитектурно — в виде постройки обетного храма. Как вариант, этот храм мог бы быть воздвигнут в честь святителя Луки Войно-Ясенецкого (+1961), который занимал Крымскую кафедру с 1946 по 1961 год, потому как 18 марта 2014 года, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России, является днем его церковного поминовения — праздником обретения его мощей.
Сакральная архитектурная коммеморации является для общества мощным объединяющим фактором. Если взять, к примеру, военные мемориалы, то гражданские панихиды в виде возложения венков и минуты молчания перед вечным огнем являются не более чем символическими актами. В то время как соборная молитва за усопших воинов не только в едином действии объединяет всех молящихся, но и объединяет их с теми, за кого они молятся. Часовня, как военный мемориал, или храм, являются, поэтому, более предпочтительной мемориальной формой, чем любые другие и могут не только дополнять каменные стелы или вечный огонь, но и полноценно заменять их. Безусловно, правильным решением было бы возведение памятных часовен и храмов на местах массовых захоронений воинов, павших в Гражданской войне. Такие памятники являются подлинными памятниками примирения народа и не могут оскорбить ни память о павших, ни чувства ныне живущих.
На территориях Российской Федерации, где исторически проживает нехристианское население, помимо мемориальных православных сооружений, возможно и возведение мусульманских или буддистских памятных сакральных объектов. В истории России есть примеры возведения нехристианских сакральных объектов в честь военных побед и в память о павших воинах. Примером тому может служить Хошеутовский ху-рул в селе Речное Харабалинского района Астраханской области, воздвигнутый в честь победы в войне 1812 года и в память о павших воинах калмыках, или Мемориальная мечеть на Поклонной горе, построенная в 1997 году в память обо всех воинах мусульманах, погибших во время Великой Отечественной войны.
Возможно, и возведение комплексных сакральных мемориалов в регионах, в которых наблюдается напряженная межэтническая обстановка. Примером крайне удачного комплексного сакрального мемориала в настоящий момент может служить Казанский кремль, в котором соседствуют Благовещенский собор, заложенный Иваном Грозным в память о присоединении Казани к Московскому царству и мечеть Кул-Шариф, открытая в 2005 году как памятник героической обороне Казани в 1552 году. Имам Кул Шариф был одним из руководителей обороны Казани и погиб при штурме города войсками Ивана Грозного. Возведение комплексных сакральных мемориалов является актом примирения народов и выглядит более предпочтительной практикой, чем установка монументальных памятников, так как однозначных исторических личностей практически нет, и выбор персоналий всегда провоцирует споры. Достаточно вспомнить скандальную историю с установкой памятника генералу А. П. Ермолову в Пятигорске, когда представители самых разных кавказских диаспор города крайне резко отозвались об увековечивании памяти генерала.
Во-вторых, государство должно обратить внимание на топонимику и рассмотреть вопрос о возвращении исконных названий улицам и переулкам исторических городов. Речь не идет о тотальной ревизии коммунистического прошлого страны, а лишь о возвращении памяти. Здравый смысл требует восстановления исторической справедливости. Когда идешь по историческому городу и видишь древний монастырь, стоящий на Красноармейской улице или храм на площади Ленина, возникает когнитивный диссонанс. Переезжая из одного исторического города в другой, ты видишь, как меняется вокруг тебя архитектурное окружение, но названия улиц остаются все теми же: Советская, Первомайская, Комсомольская, улица Осипенко, Володарского, Луначарского. Все-таки история нашего государства началась не в ХХ веке и где как не в исторических городах мы должны иметь возможность это почувствовать. Исторический город — это комплексный мемориальный объект, многоуровневый сакральный памятник, фактически, особый тип сакрального ландшафта, так как храмы и монастыри являются архитектурными, градостроительными, визуальными и культурными доминантами исторических городов, и топонимика исторического города, как комплексного мемориального объекта, безусловно, должна быть аутентичной.
Память есть творческая сила личности, созидающая настоящее как будущее через про- шлое. Память — это всегда осознанная память, то, что я особо выделяю в своем сознании. То, что я живу в данный миг. Не просто череда образов прошедшего, но именно то, на чем я останавливаюсь своим вниманием, что осмысливаю. То, что я помню, определяет меня. Моя сознательная память сейчас творит меня завтрашнего, потому что я сегодня обращаюсь к вчерашнему себе, чтобы достигнуть нового себя завтра. Поэтому память — это всегда выбор, и в этом смысле государство не должно стоять в стороне. Оно должно обращать внимание на этот выбор и, в какой-то степени, даже определять его, поддерживая наиболее удачные и созидательные практики исторической мемориальной культуры.
Список литературы Государственная мемориальная культурная политика: к вопросу о сакральной коммеморации
- Баталов А. Л. Казанский Благовещенский Собор и обетное строительство в Казани после 1552 года // Вестник ПСТГУ. Серия У Вопросы истории и теории христианского искусства. 2012. Вып. 3 (9). С.86-105
- Бычков В. В. Русская средневековая эстетика Х!-ХУП века. М., 1992
- Калуцков В. Н. Ландшафт в культурной географии. М., 2008
- Кияновский М. И. Русские военные памятники // Ставрографический сборник. Книга I. М., 2001
- Культура в нормативных актах Советской власти. 1917-1922. М., 2009
- Мелютина М. Н. Церковно-народный месяцеслов: посвящения и праздники Кенозерских часовен // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. С. 91-95
- Охрана культурного наследия России ХУП-ХХ вв. Хрестоматия. Том 1. М., 2000
- Сокол К. Г. Монументальные памятники Российской империи: каталог. М., 2006
- Святославский А. В. История России в зеркале памяти. М., 2013
- Святославский А. В. Памятник в России // Культура памяти. Сборник научных статей. М., 2003. С.53-74
- Святославский А. В. Традиция памяти в православии. М., 2004
- Шулепова Э. А. Историческая память в контексте культурного наследия // Культура памяти. Сборник научных статей. М., 2003. С.11-26