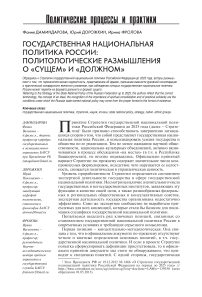Государственная национальная политика России: политологические размышления о "сущем" и "должном"
Автор: Даминдарова Фания Валиевна, Дорожкин Юрий Николаевич, Фролова Ирина Васильевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 8, 2013 года.
Бесплатный доступ
Обращаясь к Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, авторы размышляют о том, что терминологическая корректность, представление об идеале, признание важности духовной консолидации и практической солидарности являются условиями, при соблюдении которых государственная национальная политика России может перейти из формата должного в формат сущего.
Государственная национальная политика, стратегия, нация, этносы
Короткий адрес: https://sciup.org/170167056
IDR: 170167056
Текст научной статьи Государственная национальная политика России: политологические размышления о "сущем" и "должном"
ДАМИНДАРОВА Фания
П ринятие Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года (далее – Страте-гия)1 было призвано способствовать завершению затянувшихся споров о том, что собой представляет государственная национальная политика России, и консолидировать усилия государства и общества по ее реализации. Тем не менее ожидания научной общественности, национально-культурных объединений, активно включившихся в процесс обсуждения «на местах» (в т.ч. в Республике Башкортостан), не вполне оправдались. Официально принятый вариант Стратегии по-прежнему содержит значительное число компромиссных формулировок, вследствие чего нарушается ее целостность, снижается политическая и управленческая ценность.
Уровень проработанности Стратегии определяется состоянием экспертной деятельности государства в сфере государственной национальной политики. Несмотря на наличие значительного числа государственных и негосударственных институтов, заявляющих эту функцию в качестве своей цели, а также разнообразных федеральных и региональных общественных и консультативных советов, экспертная деятельность государства организована недостаточно эффективно. Само же экспертное сообщество не выработало приемлемых для всех конвенций, которые стали бы базисом для понимания специфики государственной национальной политики.
Попытаемся выделить ряд ключевых позиций, связанных со становлением государственной национальной политики России в современных условиях и требующих серьезного осмысления.
Первая позиция – концептуально-методологическая. Она связана с тем, что в официальном документе по-прежнему отсутствуют четкие и внятные определения основных понятий, в т.ч. государственной национальной политики. И если в проекте Стратегии попытка сформулировать дефиниции присутствовала, то в официально принятом документе мы этого не обнаруживаем, что приводит к смешению понятий. С одной стороны, государственная национальная политика включает в себя собственно национальную политику, а именно стратегические задачи жизнедеятельности государства, политику осуществления интересов всей российской нации. В данном случае подразумевается понимание нации в качестве «гражданской нации», зафиксированное в документах ООН, как «народа, объединенного в государство». Россия с этой точки зрения есть государство россиян, в которое входят представители всех этнических групп. Заметим, что в большинстве стран мира термин «нация» имеет политический, гражданский смысл. В отечественной же традиции, вплоть до 1990-х гг. базировавшейся на истматовской цепочке исторических форм общностей людей (род – племя – народность – нация), нация фактически трактовалась как этнонация. Под нацией советские этнографы и историки понимали высший тип развития этноса, изначальную (примордиальную) общность людей, объединенных происхождением, территорией проживания, культурными обычаями, традициями, языком.
Между тем, западная социологическая мысль за вторую половину ХХ в. проделала огромный путь в осмыслении нации – главного феномена современной эпохи. Среди российских исследователей постепенно также утверждается понимание нации как политико-государственной общности. Идеологема «российская нация» при тактичном, умелом ее применении может стать одной из ценностей, способствующих интеграции российского общества. Это сегодня осознают и ученые, и представители высшего эшелона власти.
С другой стороны, государственная национальная политика включает в себя политику в отношении национальностей (этносов, этнических общностей). Это деятельность по регулированию этнополитических и этнокультурных процессов, направленная на согласование и интеграцию интересов всех проживающих в стране этнических общностей, обеспечение правовых и материальных условий для их развития на добровольной и равноправной основе в границах соблюдения прав человека. Термин «национальность» коррелирует с терминами «этнос», «этническая общность», под которыми понимается исторически сложившаяся, компактно проживающая на определен- ной территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры и психики, а также сознанием своего духовного единства и отличия от других подобных образований.
Разработчики Стратегии до конца не определились с тем, какой научный подход лежит в основе понимания терминов «нация» и «этнос». Согласно Стратегии, российская нация – это народ, хотя подчеркивается, что это не просто народ, а многонациональный народ. Этническая общность – тоже народ. Таким образом, и этносы, проживающие в Российской Федерации, принято называть народами, и вся российская нация – это народ. В результате подобного смешения понятий непонятно, кем же являются, например, живущие в Российской Федерации башкиры, татары, марийцы, чуваши – народами? этническими общностями? нациями? В документе не проведена четкая граница между понятиями «этнический» и «национальный», они используются то как разные категории, то как синонимы.
На наш взгляд, в Стратегии следовало четко определить и «развести» употребление понятий «нация», «народ», «этнос», «этническая общность». Российская нация – это и есть российский народ, который складывается из этнических общностей, проживающих на территории российского государства. Исходя из этого, все так называемые «национальности», проживающие в РФ (их, по результатам Всероссийской переписи 2010 г., 193), есть этнические общности, будь то русские, татары, башкиры, чуваши и т.д. Таким образом, преодолевается концептуальная двусмысленность, вытекающая из формулировок российской Конституции, задавшей формулу «многонациональный народ». Российская нация – это не многонациональный народ, а многоэтнический народ. Этническая общность – это не народ, а то, что в советское время в паспорте фиксировалось в строке «национальность».
С точки зрения лингвистической корректности о России необходимо говорить как о полиэтничной, а не многонациональной стране. Термин «нация» может быть отнесен только к россиянам как своего рода надэтнической общности, которая создала одну из мировых культур. Иными словами, должна идти речь о двухуровневой идентичности россиян – российской гражданской (надэтнической) идентичности, формирующей гражданскую нацию, и этнической идентичности, привязанной к родному языку, культуре, традициям. Надэтническая идентичность, как отмечает М.Е. Попов, с одной стороны, синтезирует социокультурную идентичность сообщества граждан, этнические идентичности и политическую связь с государством, базируясь на принципах согражданства; с другой – структурирует посредством геополитики общенациональную идентичность в мировое сообщество. Как тип макросоци-альной идентичности, она представляет собой структуру самосознания, соединяющую субъективно осознаваемые и переживаемые общечеловеческие ценности, государственные и общекультурные символы, социально-политические установки, гражданские отношения, оценки и нормы надэтнической общности, которые определяют место личности и общности в пространственно-временном континууме культуры1.
При этом не надо забывать о том, что надэтническая общность – это не только понятие, но и феномен. Реальные условия и предпосылки для консолидации единой надэтнической общности россиян содержатся уже в многовековой истории совместного проживания этносов, например на территории Урало-Поволжья, в Башкортостане, где на протяжении столетий складывалась система взаимосвязанных материальных и духовных традиций.
Вторая позиция – идеально-типическая. Важнейшим долгосрочным ориентиром Стратегии должна быть идеальная модель социума, проект «российской гражданской нации» на основе государственного единства – своего рода позитивный образ этнических отношений. В советской системе, несмотря на все ее недостатки, такой элемент присутствовал и вносил значимый вклад в стабилизацию этнополитической ситуации. Сегодня в массовом сознании россиян сфера межэтнических отношений воспринимается как чреватая конфликтами. Уже в СССР вполне могла сложиться советская гражданская нация, но устойчивость советского государства основывалась преимущественно на идео-кр атических основаниях. Поскольку в современной России отсутствует возможность воспроизведения этого принципа, встает необходимость стремиться к большей национальной консолидации, в т.ч. к интеграции народов в единое культурное поле. Не может быть полноценного согражданства без единства национальной политической и правовой культуры.
Не случайно Л.М. Дробижева утверждает, что для совмещения государственной и этнической идентичности государство должно выстроить систему отношений, основанную на взаимопонимании и доверии. Этническая и российская идентичность совместимы и пересекаются в том случае, если и та и другая выражены в пределах нормы. Оптимальная для России модель – «не этнический нигилизм и этнокультурная гомогенность, а интеграция на основе взаимодополняющих и совмещающихся ценностей, представляющих общие интересы. При такой модели общества каждый народ, этническая группа становятся заинтересованными в консолидирующем государстве»2.
Политологи Башкортостана справедливо отмечают, что характер межэтнических отношений зависит от того, какая оценка – положительная или отрицательная – преобладает в коллективной памяти этносов3. Например, военным конфликтам на Северном Кавказе предшествовала кампания в центральных и местных СМИ, посвященная «незаконной депортации» в годы Великой Отечественной войны, а также более ранним негативным аспектам коллективной исторической памяти, что, в частности, способствовало эскалации осетино-ингушского конфликта из-за Пригородного района. В Республике Башкортостан целый ряд политических сил, общественных групп или интернет-проектов пытаются актуализировать негативную историческую память этносов в качестве фактора современных этнополи- тических процессов. Основными проблемами здесь выступает память о башкирских восстаниях и действительных или мнимых «угнетениях» со стороны самодержавного государства. Оправданными представляются опасения, что «преподнесение истории Башкортостана как бесконечной череды восстаний создает угрозу сформировать у школьника убеждение о враждебности соседних народов по отношению к башкирам»1. Перенос акцента с изучения башкирских восстаний на изучение вклада башкир в обеспечение обороноспособности Российского государства во время Отечественной войны 1812 г., на роль советского государства в обретении башкирами своего литературного языка и письменности позволит создать не конфронтационную, а синергетическую модель взаимодействия различных российских этносов.
Третья позиция – культурно-идеологическая. Своеобразие ситуации в современной России состоит в том, что в постсоветский период произошел слом важнейших систем жизнеустройства страны. В массовом сознании возник идейный вакуум, заполнившийся обломками различных идеологий и духовных течений, в т.ч. тоталитарных и антигосударственных. Результат – не только кризис образования, культуры, патриотизма и общей духовности, но и активизация этнополитического экстремизма.
Для сохранения российской государственности требуется разработка отдельной программы возрождения культуры как символа общенационального единства. Необходим государственный проект создания национальной культуры, преемственный по отношению к отечественной классике, но с художественным стилем и образами, понятными современному человеку, в т.ч. молодому. Жизненно важной является реанимация патриотической идеи, способной преодолеть общий идеологический и моральный кризис общества, локальные социальные и этнические конфликты, отрыв от традиций.
Единое гуманитарное образование в России должно поворачиваться в направлении увеличения базовой составляющей, формирующей российского гражданина. Речь идет в т.ч. об увеличении количества часов, отводимых на национальную (российскую) историю, культуру, литературу. Актуализируется задача формирования механизмов более эффективного государственного использования национальных ресурсов – человеческих, информационных, материальных, финансовых – в целях обеспечения поддержки качественного воспроизводства гражданского и кадрового потенциала.
Большая роль в этом направлении отводится структурам дополнительного образования, проведению образовательных семинаров и курсов повышения квалификации профессиональных сообществ, функционально ответственных за гражданскую и национальную социализацию населения. В обществе, в сознании граждан необходимо культивировать социально значимые гражданские и патриотические ценности, способствующие формированию культурной и исторической общности народов Республики Башкортостан и России. Необходимо вернуться к задаче сознательного государственного конструирования «общей истории» в целях интеграции этнических общностей в единую нацию. Не случайно сегодня так много говорят о качестве школьных учебников по российской истории, превратившихся в совокупность фактологического материала и утративших идейную составляющую.
Напомним, что единственный из крупных этносов, которому в СССР было отказано в процедуре создания «своей» нации, был русский. И сделано это было глубоко осознанно и теоретически обоснованно2. Этнически русские люди составили в грандиозном здании советской страны своего рода связующий материал для создаваемых кирпичиков-наций, которым, в свою очередь, был предоставлен максимум национальных прав. РСФСР оказалась единственной ненациональной союзной республикой, которая даже внутри себя, имея немало национальных автономий, не допускала какого-либо подобия формы русской нации. Такой подход во многом унаследован и современной Российской
Федерацией. В конечном счете, русский народ самоопределялся в «дружбе с другими народами», а не в политической субъектности.
Именно поэтому и сегодня проблема русского населения в национальных республиках – это серьезный фактор, от которого зависит обеспечение межэтнического согласия и перспектив дальнейшего регионального и общенационального развития. Русское населе -ние играет ключевую роль в социальноэкономической и общественнополитической сферах данных регионов. Помимо вклада в единую экономику и хозяйственное управление, образование и культуру, русские жители республик способствуют осознанию представителями других народов своей общероссийской идентичности. Присутствие русского населения в Урало-Поволжье и Республике Башкортостан обеспечивает, с одной стороны, коллективное самосознание основных нерусских этносов и удерживает регион от дальнейшего дробления на локально-культурные ареалы, а с другой – влияет на формирование общероссийских культурных ценностей и установок, на поддержание общероссийского самосознания и патриотизма. Русское население играет роль стабилизатора межэтнических отношений, предотвращая напряженность и межэтнические конфликты, которые имеют исторические корни.
Четвертая позиция – действеннопрактическая. За последние десятилетия в России накоплен практический опыт в сфере государственной национальной политики, есть предпосылки повышения ее эффективности в части создания и апробирования практических технологий, применимых в российских условиях. Серьезно продвинулось и теоретическое осмысление происходящих в обществе процессов применительно к этнической или национальной специфике. Все это свидетельствует о необходимости перехода к взвешенной стратегии и разумной тактике в области государственной национальной политики.
Однако утвержденная Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации до 2025 года – это документ, качественную сущность которого можно определить не как стратегию, а как концепцию. Стратегия в политике – это система крупномасштабных решений и направлений деятельности, последовательная реализация которых позволяет достичь целей, которые ставит перед собой государство и другие организованные субъекты политики. В данном документе мы, к сожалению, не обнаруживаем «дорожной карты» для реализации стратегии с выделением основных этапов ее реализации и их индикаторов. Тем не менее Стратегия может поднять планку ответственности всех субъектов власти за будущее страны и закрепить связь этого будущего с политикой государственного национального строительства.
Необходимо приступить к практическому созданию системы государственного проектирования национальной политики в регионах. Это особенно актуально для такого полиэтничного региона, как Республика Башкортостан. Тем более что в настоящее время в республике среди экспертного сообщества идет обсуждение проекта Концепции национальной политики Республики Башкортостан, название которой также отражает сохраняющуюся двусмысленность понимания термина «национальный».
Не менее важный уровень реализации государственной национальной политики (что неоднократно подчеркивается в Стратегии) – муниципальный. Установление ответственности не только государственной, но и муниципальной власти за состояние межэтнических отношений на соответствующих территориях, создание системы их мониторинга могут стать действенными факторами раннего предупреждения конфликтных ситуаций.
Резюмируя, необходимо подчеркнуть, что терминологическая корректность, представление об идеале, к которому необходимо стремиться, признание важности духовной консолидации и практической солидарности народов России являются условиями, при соблюдении которых государственная национальная политика России может перейти из формата должного в формат сущего.