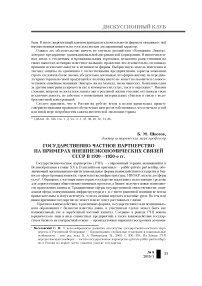Государственно-частное партнерство на примерах внешнеэкономических связей СССР в 1920-1930-е гг
Автор: Шпотов Борис Михайлович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 1 (8), 2010 года.
Бесплатный доступ
В сообщении уделяется внимание государственно-частному партнерству - организационно-институциональным формам взаимодействия государства и бизнеса в сфере промышленности, строительства, инфраструктуры, НИОКР, вплоть до сферы услуг.
Государственно-частномое партнерство, внешнеэкономические связи, советское государство, зарубежный бизнес, импортные технологии, концессии
Короткий адрес: https://sciup.org/14723524
IDR: 14723524
Текст статьи Государственно-частное партнерство на примерах внешнеэкономических связей СССР в 1920-1930-е гг
Государственно-частное партнерство (ГЧП) —современный термин, появившийся в Великобритании в конце XX в. В английском оригинале —public-private partnership, обозначающий организационно-институциональные формы взаимодействия государства и бизнеса в сфере промышленности, строительства, инфраструктуры, НИОКР, вплоть до сферы услуг1. Обращаясь к частным инвесторам, государство изыскивает недостающие средства для дорогостоящих общественно-значимых проектов, а бизнес получает новые возможности приложения капитала. Традиционные сферы государственной ответственности: социальная сфера, коммуникации, инфраструктура и т. п. с чисто рыночной позиции не всегда привлекательны и могут исчезнуть, если их активы передать в частные руки. По тем или иным причинам государство не может или не хочет расставаться с ними.
Практика взаимодействия, в различных формах, государственного или муниципального образования с бизнесом известна давно, и участником сделок может быть как национальный, так и зарубежный частный капитал. Создание в рамках ГЧП нового юридического лица в виде совместных предприятий, а также взаимодействие государства и бизнеса на контрактной основе —промежуточные варианты построения экономи-
-
1 Веселовский С. Я. О целесообразности развития институтов государственно-частного партнерства в Российской Федерации // Приватизация: глобальные тенденции и национальные особенности / отв. ред. акад. В. А. Виноградов. М., 2006. С. 830—854. На Западе ГЧП нередко именуют наоборот —частно-государственное партнерство (private-public partnership), но в России на первое место ставится участие государства.
ческих отношений, позволяющие избежать крайностей огосударствления и приватизации, основанных на смене собственника с вытекающими отсюда повышенными рисками. К контрактным формам обычно относят концессии, лизинг (вид аренды)2и подряд.
Концессии, т. е. аренда фирмой-концессионером государственного имущества на условиях вложения капитала в его реконструкцию или техническое оснащение, управления им и получения предпринимательской прибыли, должны были завершаться, по истечении договора, безвозмездным возвратом этого имущества в исправном состоянии или досрочным выкупом его государством. К договорным формам ГЧП относилась и так называемая техническая помощь —в проектировании, строительстве и пуске крупных промышленных, транспортных, энергетических и прочих объектов. Если подрядчик просто выполнял ту или иную оплачиваемую работу, техническая помощь этим не ограничивалась. Исполнитель передавал в собственность заказчика свои производственные секреты, патенты, лицензии, чертежи, проводил консультации, оказывал услуги по обучению работников, но не делал инвестиций и не участвовал в управлении предприятием. Сырье и материалы, машинную технику и оборудование обеспечивало государство, и оно несло все прочие расходы. Фирма-исполнитель получала компенсацию затрат на проектирование, командировки своих сотрудников и обусловленное договором вознаграждение, являвшееся ее прибылью3.
В России государство устанавливало «правила игры» для частных предпринимателей, включая иностранных4. Но если в Российской империи предприимчивые подрядчики и концессионеры часто добивались односторонних выгод5и наживались на госзаказах, в советских условиях это не удавалось никому из них. В 1920-е и 1930-е гг. зарубежные фирмы впервые имели дело с советской властью, которая воспринималась ими как бюрократическая система, не имевшая достаточных технических, финансовых и других материальных ресурсов, а следовательно, зависимая от Запада, но обладавшая несгибаемой политической волей во всех внутренних делах. Советское же руководство было уверено, что имеет дело с рано или поздно «обреченным на гибель» миром капитала. Однако деловые отношения двух миров являлись, при всей их противоречивости и неоднозначности, исторической реальностью.
Государственно-частное партнерство советских организаций и западных компаний, в которых видную, а подчас ключевую роль играли компании США, было существенным элементом экономического развития СССР на протяжении всего межвоенного периода. Если подходить к вопросу с этой точки зрения, ликвидация НЭПа означала избавление от внутренних капиталистических элементов и зарубежных концессий, но отношения с иностранным капиталом оставались в форме получения платной технической помощи для создания индустриальных гигантов первых пятилеток.
Государственно-частное партнерство советского государства и зарубежного бизнеса
В конце XIX в. Соединенные Штаты Америки заняли ведущее положение в группе стран индустриального капитализма. Характерной чертой их экономического развития
-
2 Например, передача частной фирме в лизинг транспортных средств, строительной техники, дорогого в эксплуатации оборудования и т. п., являющегося собственностью государства или других фирм.
-
3 Шпотов Б. М. Бизнесмены и бюрократы: американская техническая помощь в строительстве Нижегородского автозавода, 1929 — 1931 гг. / / Экономическая история. Ежегодник. 2002. М., 2003. С. 193.
-
4 Поткина И. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России, XIX — первая четверть XX в. М., 2009.
-
5 Писарькова Л. Ф. Муниципальная собственность в России / / Собственность в ХХ столетии. К 80-летию акад. В. А. Виноградова. сб. статей / под ред. акад. В. В. Алексеева. М., 2001. С. 241—242.
стали гигантские промышленно-торговые корпорации, обладавшие передовыми технологиями. Роль США в мировой экономике резко возросла после Первой мировой войны. Фактором международного значения явилось и создание советского государства, принимавшего все меры к тому, чтобы не оказаться в дипломатической и экономической изоляции.
Даже отказавшись от выплаты дореволюционных долгов и национализировав государственную и частную собственность в бывшей Российской империи, советская власть не получила достаточных ресурсов для скорейшего восстановления народного хозяйства и экономического прогресса. Пришлось прибегнуть к сотрудничеству с крупным иностранным капиталом, поскольку свободных средств для инвестирования в дорогостоящие экономические проекты, такие как разработка природных богатств в труднодоступных районах, реконструкция старых или строительство новых, технически передовых предприятий, в стране не осталось. Это привело к возрождению, причем в крупном масштабе, государственно-частного партнерства с американскими и европейскими компаниями.
Советское государство с первых лет своего существования остро нуждалось как в прямых инвестициях, так и в передовых технологиях. В 1920-е гг. иностранные фирмы допускались к работе в СССР на основе законодательства о концессиях, инициатором которых был В. И. Ленин. В конце 1920-х —начале 1930-х гг. концессии сменились оплачиваемой государством технической помощью. Это были не единичные заказы, а широкая программа получения ноу-хау для индустриализации. В течение двух первых пятилеток и частично —третьей советская промышленность перенимала новейшие технологии, опыт и знания у западных фирм, возвратив себе еще и предприятия, сданные ранее концессионерам. Практиковался и наем зарубежных специалистов и рабочих по контракту —обычно на год с правом продления, но эти тысячи гастарбайтеров были гражданами развитых стран, потерявшими работу и поехавшими на заработки в СССР.
Если говорить о смене контрактных форм ГЧП, необходимо установить, насколько эти отношения являлись партнерскими, т. е. взаимовыгодными. Договор с государством был единственной «охранной грамотой» иностранного концессионного капитала, но оно, не меняя конкретных юридических статей договоров, могло поменять условия концессионной деятельности вообще и любой отдельной концессии в частности. Заключение договора не гарантировало концессиям выживания, ибо оговаривало лишь часть условий иностранной предпринимательской деятельности. Другая часть условий, подчас решающих, вытекала из нормотворчества центральных и местных органов власти, что было их суверенным правом, ограничить которое не позволял никакой концессионный договор.
Известны, например, попытки начать бойкот продукции московской фабрики канцтоваров А. Хаммера предписаниями пользоваться продукцией только государственных предприятий или под разными предлогами ограничивать вывоз концессионерами прибылей, особенно при выпуске товаров народного потребления, о чем мы расскажем далее. Предпринимателям в любой момент могли отказать в доступе к сырью, транспорту и т. д. на основании тех или иных постановлений — например, о закрытии некоторых районов для заготовок сырья частными лицами, о преимущественном праве государственных и кооперативных предприятий на перевозку грузов, о запрещении государственным торговым организациям совершать сделки на дефицитные товары с концессионерами. Попытки защиты прав концессионеров дипломатическими представителями стран их происхождения могли лишь продлить, но не спасти жизнь той или иной концессии. Тем самым нарушался основной принцип ГЧП —принцип взаимовыгодного партнерства.
Противоречивость советской концессионной политики заключалась в том, что положительные стороны концессий считались одновременно и отрицательными. Плюсы — это увеличение количества рабочих мест, появление новых промышленных центров, установка импортной техники, улучшение организации производства. Минусы: концессионные предприятия конкурируют с государственными и, обладая рядом преимуществ (новое оборудование, лучшая техника и организация), способны подорвать ведущее положение госпредприятий на внутреннем рынке, затруднить планирование народного хозяйства. Кроме того, концессии считались проводниками влияния иностранного капитала, способными группировать вокруг себя частные интересы и разлагающе влиять на население, ослаблять советскую власть в удаленных от центра или приграничных территориях. Высказывались опасения, что концессионные предприятия отвлекают от государственного сектора ограниченные запасы сырья, притягивают квалифицированную рабочую силу, ввозят сырье и вывозят из страны прибыль, а на то и другое требуется валюта. Советские концессии являлись и источником валютных поступлений в государственный карман, и их «расхитителями», почему могли «временно» лишиться и прописанного в договоре права на реализацию прибылей.
Демонтаж концессий
Отечественные и зарубежные историки пристально изучали несостоявшиеся концессионные проекты и функционирование предприятий с иностранным капиталом в первой половине и в середине 1920-х гг. Не исследован, однако, демонтаж всей концессионной системы в результате изменения экономического курса СССР. Единичные концессии на 8—10 лет пережили НЭП, окончание которого датируется 1927 г., а Главный концессионный комитет (ГКК), лишенный прежних прав и полномочий, «дотянул» до 1937 г. Когда на смену НЭПу пришла первая пятилетка, были окончательно «сданы в архив» утвержденные В. И. Лениным в 1920 г. гарантии соблюдения прав и обязанностей концессионеров и обязательства правительства не пересматривать их в одностороннем порядке, хотя то и другое неоднократно подтверждалось официальными заверениями.
13 февраля 1930 г. ГКК провел совещание, на котором присутствовали его члены, представлявшие основные государственные ведомства (Наркоматы иностранных дел, внешней торговли, финансов и др.). По мнению тогдашнего председателя ГКК Л. Б. Каменева, концессии «естественно выталкиваются из нашей хозяйственной жизни», а договоры, на которых они основаны, устарели. Концессии, подчеркнул он, не могут существовать «без свободы рынка, свободы кредитования, свободы вывоза валюты, которых мы не можем им дать». Каменев утверждал, что часть концессий даже вредна для народного хозяйства —они требуют сырья, которого на внутреннем рынке нет, а на заграничное сырье нужна валюта. Наконец, местная администрация и органы профсоюзов «с самого начала были настроены к концессиям вряд ли доброжелательно». Концессии создавались сверху, и как только в центре «отняли руки от концессий, все эти местные органы на них набросились. Поэтому и Наркомфин, и Госбанк, и местные органы ВСНХ и профсоюзы видят теперь в концессионере такой объект, на котором можно доказать свою подлинную коммунистическую веру». Отечественные производители аналогичных товаров утверждают, что могут работать не хуже. Поэтому, резюмировал председатель ГКК, целесообразно временно оставить ограниченное число самых необходимых концессий.
Замнаркома иностранных дел Б. С. Стомоняков беспокоился о международной репутации советского государства в связи с ликвидацией концессий, и призывал действовать с осторожностью. Со стороны ряда членов ГКК поступили более резкие заявления о невозможности создать условия, при которых бы не было недоразумений и жалоб от концессионеров.
18 февраля 1930 г. концессионная комиссия Политбюро под председательством Л. Б. Каменева рассмотрела вопрос об отношениях с тремя группами концессий: первая —уже ликвидируемые, вторая —еще нужные в народном хозяйстве или связанные с международными договорами СССР, и третья —подлежащая ликвидации в ближайшем будущем. По отношению к первой группе предписывалось расторгать договоры полюбовно и избегать тех «искусственных мер», которые позволили бы концессионерам обвинять в ликвидации советскую сторону. Для второй следовало создать нормальные условия работы —разрешить импорт сырья, пользование кредитами Госбанка по установленным лимитам, и вывоз валюты, но с ограничениями. Для концессий третьей группы предусматривался «временный специальный режим», чтобы они работали еще какое-то время, не вызывая подозрений за границей резким и массовым закрытием. При этом требовалось создать «такие условия, при которых ответственность за разрыв договора была бы возложена на концессионера»6.
В основном из внешнеполитических соображений части концессий позволили пережить период НЭПа, а их демонтаж объяснялся теми же причинами, что и отказ от «новой экономической политики» как бесполезной для индустриализации и построения централизованной планово-директивной экономики. Свою роль сыграла довольно успешная замена концессий технической помощью. Предпочтение отдавалось советским предприятиям, которые не вывозили прибыль и работали на отечественном сырье. Сохранение заключавшихся на десятки лет договоров с капиталистическими фирмами было и политически неприемлемо, и экономически невыгодно для советского руководства.
Что, помимо естественного стремления к прибыли, побуждало иностранные компании участвовать в столь необычном и рискованном бизнесе? Вероятно, во-первых, негативная информация доходила не до всех и не всегда производила должное впечатление. Во-вторых, советская власть не казалась серьезным препятствием, поскольку исключительно богатая природными ресурсами страна находилась в тяжелом экономическом положении. В-третьих, крупные фирмы вкладывали в концессии лишь часть свободного капитала, а каждый концессионер был уверен, что у него дела пойдут лучше, чем у дореволюционных владельцев или у «красных». Оставалась надежда на то, что советские законы будут смягчаться или их удастся обойти. Но иностранные предприниматели недооценили способность советской власти использовать с выгодой для себя как заключение концессионных договоров, так и их расторжение.
Приобретение импортных технологий
Для зарубежных компаний степень риска от концессионного бизнеса была высока из-за незащищенности и временного характера предпринимательской деятельности в СССР. Риск от технической помощи был меньшим: инофирмы ограничивались проектированием промышленных объектов на основе своего опыта и технологий, и обучали специалистов и рабочих в Советском Союзе и на своих предприятиях. Технической помощи придавалось большее, нежели концессиям, значение как прямому пути приобщения к зарубежным технологиям и получению их в собственность. Для инофирм риски, понижавшие выгоду от договоров, заключались в урезании, под разными предлогами, вознаграждений, дополнительных затратах на переделку проектов из-за пересмотра советской стороной исходных заданий (затраты эти не возмещались), неадекватных условий труда и быта для командированных в СССР сотрудников, что увеличивало накладные расходы компаний. Преждевременный разрыв договоров техпомощи мог сэкономить валюту, но обернуться потерями от неумения пользоваться импортным оборудованием, от прекращения советов и консультаций.
-
6 Хромов С. С. Иностранные концессии в СССР. Исторический очерк. Документы: в 2-х ч. М., 2006. Ч. II. С. 55—61, 71—73.
История выполнения договоров о технической помощи требует углубленного исследования на основе архивных данных, но помимо колоссальных затрат в валюте в годы первой пятилетки, можно обозначить еще две причины сокращения объема технической помощи после 1933 г. Это, во-первых, очевидные успехи самой индустриализации: новые и реконструированные заводы и фабрики начали давать продукцию. Во-вторых, техническая помощь стала более адресной (договоры с the Radio Corporation of America, the Curtiss-Wright Corporation и др.), а для уже построенных, но расширявшихся предприятий, как например, Горьковский автозавод, продолжались поставки оборудования.
Едва ли можно сомневаться в том, что ускоренная модернизация большинства отраслей советской промышленности полностью или в основном зависела от получения западных технологий и ноу-хау7. Попытки своими силами проектировать и строить, быстро и качественно, крупные и технически сложные предприятия не удавались.
Главная тому причина —директивные требования увеличить размеры предприятий, форсировать их сдачу в эксплуатацию и оборудовать по последнему слову техники. Иногда секретом оставались технологии, как в производстве вольфрамовой нити для электроламп или высокооктанового бензина. Это вынуждало обращаться к западным компаниям, но хаос и бесхозяйственность на местах снижали реальное значение технической помощи. Решения «наверху» мало влияли на положение дел «внизу». На самых ответственных стройках не хватало в нужный момент грузовиков, бетона, металлоконструкций, не говоря уже о слабой механизации труда и дефиците жилья для рабочих. Освещая, наряду с достижениями, и «безобразия» на стройках и в цехах, в социальной сфере, газеты тех лет создавали более реалистичную и правдивую, чем последующие труды советских историков, картину индустриализации8.
Новейшие технологии и оборудование не использовались на полную мощность из-за трудностей освоения, нехватки подготовленных кадров, перебоев в снабжении, низкого качества сырья, материалов и строительных работ, отставания транспортной сети, элементарного головотяпства. «В муках рождается завод» — под таким заголовком газета «За Индустриализацию» от 20 ноября 1930 г. поместила очерк Н. Старова о Сталинградском тракторном предприятии. Снижение показателей роста ключевых отраслей в конце 1932 —начале 1933 г. во многом объяснялось трудностями «вживления» новейших технологий в чужеродную ткань советской системы. Мобилизация дополнительной рабочей силы при незначительном росте производства, а иногда при его падении, снижала среднюю производительность труда9.
Советский интеллектуальный вклад в индустриализацию —не вторичное изобретение того, что уже применялось на Западе, а изучение возможностей поставщиков оборудования и проектирующих компаний, оценка проектов и их адаптация к наличным условиям. Создавалась «мировая сеть» для выявления исполнителей —советские организации за рубежом, отраслевые НИИ и КБ, к получению промышленных секретов подключалась внешняя разведка10. Импорт технологий имел решающее значение в период создания первенцев советской индустрии. Они стали образцами для новых заводов и фабрик, центрами распространения передового опыта, а их воспроизводство являлось уже внутренним процессом.
-
7 Sutton A. C. Western Technology and Soviet Economic Development, 1917—1930. Stanford (Calif.), 1968. P. 336—340 ; Idem. Western Technology and Soviet Economic Development, 1930—1945. Stanford (Calif.), 1971. P. 291—372.
-
8 См. коллекции газетных вырезок Российского государственного архива экономики. РГАЭ. Ф. 7620. Оп. 1. Д. 72, 73, 75 и др.
-
9 Jasny N. Soviet Industrialization, 1928—1952. Chicago, 1961. Р. 96—118.
-
10 Позняков В. В. Советская разведка в Америке. 1919—1941. М., 2005. С. 106—140, 151—170.
Список литературы Государственно-частное партнерство на примерах внешнеэкономических связей СССР в 1920-1930-е гг
- Веселовский С. Я. О целесообразности развития институтов государственно-частного партнерства в Российской Федерации//Приватизация: глобальные тенденции и национальные особенности/отв. ред. акад. В. А. Виноградов. М., 2006.
- Писарькова Л. Ф. Муниципальная собственность в России//Собственность в ХХ столетии. К 80-летию акад. В. А. Виноградова. сб. статей/под ред. акад. В. В. Алексеева. М., 2001.
- Позняков В. В. Советская разведка в Америке. 1919-1941. М., 2005.
- Поткина И. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России, XIX -первая четверть XX в. М., 2009.
- РГАЭ. Ф. 7620. Оп. 1. Д. 72.
- РГАЭ. Ф. 7620. Оп. 1. Д. 73.
- РГАЭ. Ф. 7620. Оп. 1. Д. 75.
- Хромов С. С. Иностранные концессии в СССР. Исторический очерк. Документы: в 2-х ч. М., 2006. Ч. II.
- Шпотов Б. М. Бизнесмены и бюрократы: американская техническая помощь в строительстве Нижегородского автозавода, 1929 -1931 гг.//Экономическая история. Ежегодник. 2002. М., 2003.
- Jasny N. Soviet Industrialization, 1928-1952. Chicago, 1961.
- Sutton A. C. Western Technology and Soviet Economic Development, 1917-1930. Stanford (Calif.), 1968.
- Sutton A. C. Western Technology and Soviet Economic Development, 1930-1945. Stanford (Calif.), 1971.