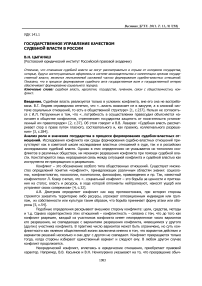Государственное управление качеством судебной власти в России
Автор: Цыганаш Вадим Николаевич
Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 7 (58) т.11, 2011 года.
Бесплатный доступ
Отмечено, что отношения судебной власти не могут рассматриваться в отрыве от интересов государства, которые, будучи институционально оформлены в системе законодательства и компетенции органов государственной власти, являются неотъемлемой составной частью формирования судебно-властных отношений. Показано, что в процессе формирования судебного акта государственная воля и государственный интерес обеспечивают формирование социального порядка.
Судебная власть, идеология, государство, гуманизм, связи с общественностью, конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/14249649
IDR: 14249649 | УДК: 141.1
Текст научной статьи Государственное управление качеством судебной власти в России
Введение. Судебная власть реализуется только в условиях конфликта, вне его она не востребована. В.Г. Ледяев справедливо отметил, что «…власть возникает не в вакууме, а в сложной системе социальных отношений, то есть в общественной структуре» [1, с.237]. Нельзя не согласиться с И.Л. Петрухиным в том, что «…потребность в осуществлении правосудия объясняется наличием в обществе конфликтов, стремлением государства защитить от посягательств установленный им правопорядок» [2, с.37]. Об этом говорит и В.В. Лазарев: «Судебная власть рассматривает спор о праве путем гласного, состязательного и, как правило, коллегиального разрешения» [3, с.284].
Анализ роли и значения государства в процессе формирования судебно-властных отношений. Исследования конфликта как среды формирования судебно-властных отношений присутствуют как в советской школе исследования властных отношений в суде, так и в российских исследованиях судебной власти. Однако в этих определениях не указывается ни типология конфликтов в различных обществах, ни механизм разрешения конфликта при помощи судебной власти. Констатируется лишь неразрывная связь между ситуацией конфликта и судебной властью как инструмента ее прекращения и разрешения.
Конфликт – это обозначение особого типа общественных отношений. Существует множество определений понятия «конфликт», принадлежащих различным областям знания: социологии, конфликтологии, психологии, политологии, философии, правоведению и пр. Так, известный конфликтолог Л. Козер считал, что «…социальный конфликт – это борьба за ценности и притязания на статус, власть и ресурсы, в ходе которой оппоненты нейтрализуют, наносят ущерб или устраняют своих соперников» [4, с.32].
А.В. Дмитриев определяет конфликт как вид противостояния, при котором стороны стремятся захватить территорию либо ресурсы, угрожают оппозиционным индивидам или группам, их собственности или культуре таким образом, что борьба принимает форму атаки или обороны [5, с.54].
Подобные определения раскрывают внешнюю сторону конфликта: цели, средства, методы и т.д. Однако характеристика этих отношений – конфликтность – связана с тем, что до того как конфликт разрешен, каждый из участников конфликта имеет неопределенное число вариантов его разрешения, не совпадающее с вариантами разрешения конфликта, имеющимися у другого (других) участника конфликта. В практике число вариантов может быть ограничено, но суть конфликтности как явления общественной жизни заключена именно в том, что вариантов действия и вариантов решений несколько и они друг с другом не совпадают. Конфликт прекращается только тогда, когда стороны избирают единственный вариант и следуют ему. В любом другом случае конфликт продолжается.
Неюридический конфликт, вплетаясь в юридические отношения, приобретает правовой характер. Например, В.В. Касьянов и В.Н. Нечипуренко указывают на то, что превращение обыч- ного социального конфликта в юридический происходит в том случае, когда по ходу конфликтных действий сторон, ими так или иначе нарушаются существующие правовые нормы. Таким образом, юридический конфликт представляет собой вторичное по происхождению образование, в основе которого лежат обычные социальные, политические, национальные, экономические, идейные, семейные и иные конфликты. Юридический конфликт оказывается одним из видов социального конфликта; отличительным признаком первого является наличие хотя бы одного составляющего элемента, обладающего юридической характеристикой. По мнению академика В.Н. Кудрявцева, необходимо различать узкое и широкое его толкование. При узком толковании все элементы конфликта (объект, субъекты, мотивация, действие, последствия и др.) носят правовой характер, при широком – хотя бы один элемент должен подпадать под действие права.
Вместе с тем, юридический конфликт, сохраняя внешние атрибуты социального конфликта, изменяет характер конфликтности. Конфликтность возникает не в связи с выбором согласованной позиции участников конфликта, а в контексте с нормой. В этой связи нельзя не согласиться с позицией В.Н. Кудрявцева о том, что юридическим является «…любой конфликт, в котором спор, так или иначе, связан с правовыми отношениями сторон (их юридически значимыми действиями или состояниями), и, следовательно, субъекты либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают правовыми признаками, а конфликт влечет юридические последствия» [6, с.19]. Отсюда сам юридический конфликт – это противоборство субъектов права в связи с применением, нарушением или толкованием правовых норм.
Это определение становится ключевым при определении особенности правовых конфликтов в России. В условиях идеологического доминирования, обобществления или контроля над средствами государство в лице своих органов оказывается участником значимого числа конфликтов, поскольку объем его полномочий обусловливает особое место и роль в поддержании социального порядка. Права государства и его институтов особенным образом гарантируются и защищаются при помощи закона. Более того, вся система принятия закона действует в условиях приоритетной защиты государства, ограничивая личность. Это характерная черта государств, в которых не развит институт частной собственности, не развиты отношения демократии и не развиты институты, обеспечивающие подобный политический режим. Отсюда типологической чертой конфликта в недемократических обществах является значительная группа конфликтов между личностью и государством и значительное ограничение способов судебной защиты личности.
Если судебную власть рассматривать как власть, уполномоченную на определение должного «в праве частного случая», то очевидно, что это должное опирается на интерес таким, каким он определен источником власти. Иными словами, защищаемые права рассматриваются не с точки зрения их равенства, а с точки зрения того, как они выглядят по отношению к доминирующему интересу.
Конкретные формы могут быть различны: это может быть определение права с точки зрения полезности того или иного члена общества. Это может быть определение объема права с точки зрения безопасности субъекта, определяющего доминирующую волю. Это может быть определение объема прав в зависимости от идеологии и так далее. Ключевым элементом в такой конструкции является отсутствие понимания права как равной меры, единого масштаба. Эта смысловая конструкция становится основной при определении типологии конфликта. Доминирующий интерес государства определяет идеологию судебного регулирования и особенности конкретных форм судебного регулирования. В свою очередь, принципиально непознаваемый, сакральный характер верховной власти отрывает процесс судебного регулирования от социальных форм общежития. Воля суверена может не учитывать объективные законы общественной жизни. Ее сакральный характер позволяет ей оставаться авторитетной.
По мнению Дориана Ламблета, согласно «западной правовой теории», «…права человека, которые могут оказаться заявленными наперекор правительству, идут во благо именно человеку как частному лицу», советский же закон, по его мнению, декларировал прямо противоположное [7, с.61].
Наиболее наглядно роль судебной власти в условиях отсутствия ее собственного социально-философского содержания видна на примере политических процессов. Политическая юстиция
– авторитарная модель уголовной юстиции, используемая властью для осуществления репрессий против политической (религиозной, национальной, расовой и т.д.) оппозиции путем применения правовых или противоправных средств [8, с.171]. Суд из докучливой помехи политическим предначертаниям власти превращается в послушного их исполнителя.
По данным К.П. Краковского, с 1866 г. по 1894 г. в России было проведено 226 политических судебных процессов против революционеров-народников [8, с.175]. По данным Н.К. Муравьева, с 1864 г. по 1917 г., политических процессов в России в начале XX века было примерно 2800 [9, с.323]. В годы первой русской революции царизм использовал военный суд против политической оппозиции как среди военнослужащих, так и среди населения.
В советский период функции суда не сводились только к отправлению правосудия. Правосудие понималось как один из элементов государственно-управленческого воздействия с конечной целью воспитания советского человека. Так, В.М. Семенов определял социалистическое правосудие как деятельность советского суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел [10, с.20], считая, что функция правосудия есть лишь одно из направлений деятельности суда, но не вся осуществляемая им государственная деятельность и отправление правосудия от имени государства представляет собой не направление, а вид и содержание деятельности. Утверждение же, что осуществление правосудия – функция суда, равнозначно отождествлению вида государственной деятельности с ее направлениями. В советском государственном строительстве имело место отступление от принципа разделения властей, принижение роли судебной власти, придание ей зависимого положения, что, по мнению большинства исследователей, повлекло за собой развитие авторитарности в управлении государством, понижение роли личности и незащищенность прав и свобод граждан. Характер судебной деятельности определялся государственноправовой и социальной ролью, которую выполнял суд в советском государстве: осуществлял социалистическое правосудие, т.е. одну из важных отраслей государственной деятельности, направленной на реализацию функций социалистического государства [11, с.12]. В рассмотрении уголовных дел при отправлении социалистического правосудия суд стал одним из элементов системы социальной мобилизации большевистского режима.
Отсутствие собственного социально-философского содержания судебной власти, несамостоятельность в идеологической оценке тех правовых явлений, которые отнесены к ее компетенции, привели к системным проблемам, связанным с ценностью судебной власти как социального института.
По данным социологов, в 75% случаев люди избегают отстаивать права в суде. При изучении мнений о том, почему это так, один из вариантов предусматривал ответ: «Не верят, что в суде можно добиться справедливости». Более половины респондентов (53%) избрали именно это объяснение, которое заняло первое ранговое место среди всех других [12]. В обобщенном виде отношение общественного мнения к реализации этого принципа приведены в сводной таблице данных, полученных по разным вопросам (в % к числу опрошенных).
Судебная защита в глазах общественного мнения
|
Не обращаются за судебной защитой, потому что не верят, что в суде можно добиться справедливости |
53% |
|
Не верят, что российский суд гарантирует беспристрастное рассмотрение дел |
62% |
|
Не верят в возможность добиться успеха при обжаловании в суд действий государственных органов |
63% |
|
Не верят в законность решений |
65% |
|
Не верят, что перед законом и судом все равны |
78% |
Таким образом, 60% россиян «не доверяют», либо «скорее не доверяют» судам, и только 3,4% готовы спокойно отдаться в руки правосудия в расчете на непредвзятое и квалифицированное рассмотрение дела [13]. Репутация силовых структур гораздо лучше. Городское население, скорее, готово к жизни в условиях типично полицейского государства, успешно сформировавшее для себя соответствующее общество. Члены этого общества согласны, в крайнем случае, повиноваться силовым структурам, заметившим нарушение закона, но боятся защищать свои интересы в судебном состязании.
В отсутствие собственного идеологического содержания механизм государства, механизм государственной власти и государственная власть оказываются едиными с точки зрения своего организационного строения. Их единственная задача – подчинять себе волю подвластных. Причиной этого является фактическое сущностное единство государственной власти. Государственная власть как правовая категория определяется через свою структуру, включающую волю, силу, субъект, объект, отношения, методы и средства власти, в которых она получает развитие как самостоятельный правовой феномен человеческого общежития. Эта структура универсальна, она характерна для всех форм и видов государственной власти, реализуемой любым органом государственной власти, поскольку не включает идеологию, оценку явления на предмет соответствия правовым принципам, отражающим объективные законы общественной жизни и природу человека. В этом правовом понимании генезис судебной власти обусловлен единством структуры государственной власти, а ее природа вытекает из функциональных особенностей ее реализации. Поэтому с точки зрения правового понятия механизма государственной власти нет различия в природе структуры законодательной, исполнительной и судебной власти, а значит, кроме функциональных, которые, собственно, и охватывают волю, силу, субъект, объект, отношения, методы и средства власти, т.е. ее структуру, других различий в природе государственно-властных отношений нет.
Заключение. Судебная власть обретает собственное социально-философское содержание только тогда, когда она обретает самостоятельность в идеологической оценке тех правовых явлений, которые отнесены к ее компетенции. Ситуация, в которой судебная власть реализует чужую, вырабатываемую не субъектом судебной власти, оценку правовых явлений, превращает ее во власть – функцию и лишает собственного социально-философского содержания. Исчезает важнейший социально-философский элемент власти – воля и интерес. Власть, реализующая чужой интерес, предполагает социально-философский анализ той воли и того интереса, которые определяют направленность власти. А это означает, что судебная власть как предмет социально-философского исследования исчезает.
Список литературы Государственное управление качеством судебной власти в России
- Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ/В.Г. Ледяев. -М., 2001.
- Петрухин И.Л. Правосудие в системе государственных функций/И.Л. Петрухин. -М., 1983.
- Общая теория государства и права/под ред. В.В. Лазарева. -М., 2001.
- Козер Л. Функции социального конфликта/Л. Козер; пер. с англ. О.А. Назаровой. -М., 2000.
- Дмитриев А.В. Конфликтология/А.В. Дмитриев. -М., 2000.
- Юридическая конфликтология/под ред. В.Н. Кудрявцева. -М., 1995.
- Ламблет Д. Противоречие между советской и американской доктринами прав человека: Примирение путем перестройки и прагматизма/Д. Ламблет//Журнал Бостон. ун-та междунар. права. -1989.
- Краковский К.П. Политическая юстиция/К.П. Краковский. -Ростов н/Д, 2009.
- Троицкий Н.А. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма. 1866-1882/Н.А. Троицкий. -М.: Мысль, 1978.
- Медведь Н.Т. Материалы политических судебных процессов в дореволюционной России как исторический источник по истории КПСС/Н.Т. Медведь. -М.: Высшая школа, 1973.
- Семенов В.М. Суд и правосудие в СССР/В.М. Семенов. -М., 1976.
- Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса/М.С. Строгович. -Т. 1. -М., 1968.
- Хлебников С. От гражданского общества как до луны/С. Хлебников//Новая новгородская газета. [Электрон. ресурс]. -Режим доступа: http://info.vnovgorode.ru/news (дата обращения: 31.03.2003).