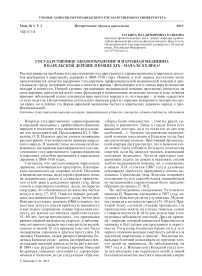Государственное здравоохранение и народная медицина в карельской деревне в конце XIX -начале XX века
Автор: Пашкова Татьяна Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 3 (148) т.2, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема сосуществования государственного здравоохранения и народных способов врачевания в карельских деревнях в 1860-1910 годах. Именно в этот период достаточно четко прослеживается попытка внедрения государством профессиональной медицинской помощи в крестьянскую среду, недоверие сельского жителя к врачам / фельдшерам и его слепая вера во всесилие знахаря и повитухи. Низкий уровень организации медицинской помощи населению (зачастую на семь деревень приходился всего один фельдшер) и возникающие летальные исходы в ходе лечения врачами заболеваний только усиливали веру простого народа в то, что знахарь - лучшее «средство» от всех недугов. На протяжении длительного времени власти старались искоренить знахарство среди карел, но и сейчас эта форма народной медицины бытует в карельских деревнях наряду с профессиональной.
Карельская народная медицина, здравоохранение в карелии, знахарство, уровень смертности, заболевания
Короткий адрес: https://sciup.org/14750868
IDR: 14750868 | УДК: 615.8
Текст научной статьи Государственное здравоохранение и народная медицина в карельской деревне в конце XIX -начале XX века
Вопросы государственного здравоохранения и народной медицины у прибалтийско-финских народов в последние годы являются актуальными для исследователей. Исследования Ю. Г. Ши-калова, О. П. Илюхи и других ученых посвящены рассмотрению этих вопросов на примере карельского народа. В данной статье на основе опубликованных материалов рассматривается сосуществование государственного здравоохранения и народных способов врачевания в карельских деревнях в 1860–1910 годах.
Считается, что местоположение карельских деревень, отличающихся простором, благоприятно сказывалось на здоровье людей. Песчаная и каменистая почва, на которой строились дома, не покрывалась грязью и оставалась практически сухой даже в дождливое время года. Дома стояли в окружении хвойных лесов, на берегах озер и рек, что обеспечивало их жителям чистые воздух и воду [7; 101]. Один из первых российских исследователей Кемского уезда Антон фон Пошман в путевых заметках (1866) отмечал, что местные жители имели приятную внешность и выглядели здоровыми, однако продолжительность их жизни составляла приблизительно 55–60 лет. Автор предполагал, что причинами ранних смертей являлась не старость, а заболевания, которыми страдали местные жители весной, осенью и зимой. В эти времена года они были подвержены горячкам и другим простудам. По данным Пошмана, самая распространенная болезнь в Кемском уезде – цинга, ею переболел почти каждый местный житель хотя бы раз в жизни1. В 1884 году русский путешественник Николай Кудрявцев описывал ситуацию со здравоохранением в Кемском уезде следующим образом:
«Народ болен повсеместно… глисты, рахит, сифилис и ревматизм. Лишь в городе Кеми есть вакансия доктора, да и та остается до сих пор свободной…». Уровень организации медицинской помощи населению в Кемском уезде был неудовлетворительным. Протоиерей архангельской епархии Легатов считал, что в Кемском уезде можно было избежать большого количества смертей, если бы нашелся человек, владеющий основами медицины. Легатов призывал священников ходить по домам и оказывать людям любую медицинскую помощь, но, к сожалению, в начале XIX столетия (1867 год) в духовных семинариях перестали преподавать основы медицины. Стремление отца Легатова поправить положение путем самообучения священников по медицинским справочникам было заведомо обречено на провал [7; 102].
По наблюдениям священника Ухтинского прихода И. Чиркова, сделанным в 1907 году, ситуация в Кемском уезде не улучшилась. Мужчины умирали в молодом возрасте (35–50 лет). Причиной этому служили отхожие промыслы, где приходилось носить на плечах тяжелые сумки с товаром весом по 8–10 пудов, вследствие этого мужчины заболевали чахоткой. Другая причина – сифилис, который заносился в Карелию из-за границы и был сильно распространен в окрестностях Ухты (совр. Калевала). Кроме того, в этот период отмечена высокая смертность детей из-за эпидемий скарлатины и гриппа2. Эпидемии повальных болезней вспыхивали по причине того, что детей не прививали. По наблюдениям, на 1907 год в д. Вокнаволок (Кемский уезд) почти вся молодежь уже переболела оспой, а зимой большое количество местного населения умерло от тифа. На тот момент против оспы уже делали прививки, но на них мало кто соглашался. Из 1861 жителя Кемского уезда привились только 16 человек [8; 155]. Карелы относились к вакцинации недоверчиво: «Oi riehkä on rubi panna, riehkä on rubie panna» (‘Ой, грех прививку делать, грех на прививку ходить’) [5; 304]. Кроме того, карелы считали, что в случае оспы нельзя ходить к врачу и «оглашать о ее присутствии, иначе она обидится и может изуродовать ребенка» [1; 22]. Результатом этого являлись вспышки эпидемии оспы, повторяющиеся регулярно, раз в 3–4 года, вследствие которых умирала почти половина детей, не достигших 6-летнего возраста [8; 155].
Медицинское обслуживание в Олонецкой губернии (Петрозаводский, Олонецкий, Лодейно-польский, Повенецкий уезды) было поставлено также крайне плохо. Знаменитый путешественник, исследователь Н. Лесков, путешествуя по всей Олонецкой губернии в 1892–1895 годах по поручению Географического общества, констатировал, что местная медицина состоит из доктора / земского врача и сельских фельдшеров, но, как утверждало местное население, в их деятельности только «формальность». На громадный уезд (размером «в половину или даже больше европейского государства») назначался всего один земский врач. В некоторых селах жили фельдшеры, которые были «невежественными» в лечении. Они пользовались своими средствами – сулемой, антимонией и бурой, упорно отрицая медицину как науку. Иногда самая обыкновенная простуда, лихорадка или порез ноги, при которых было бы достаточно наложить чистую повязку или поставить горчичники, дать потогонное или слабительное, и больной через одну-две недели поднялся бы на ноги, здесь оканчивались смертью по причине отсутствия профессиональной медицинской помощи3. В 30-е годы XIX века самыми распространенными болезнями в Олонецкой губернии считались катаральные, ревматические и воспалительные (вследствие сильных и холодных ветров), сухотка и чахотка (считались хроническими болезнями), завалы внутренностей (причиной этому являлось пьянство) и сыпи на теле (от антисанитарии)4.
Начиная с 1890-х годов уездные земства рассылали в школы минимальный набор лекарственных средств, которыми могли пользоваться не только школьники, но и местные крестьяне. В 1908–1909 годах во время начала эпидемии оспы Олонецкая уездная управа стала воздействовать на местное население через учителей начальных школ, призывая начать прививаться от оспы и не вступать в контакт с уже заболевшими [4; 250].
Но, пожалуй, больше всего от отсутствия профессиональной медицинской помощи страдали роженицы. Зачастую знахарки-повитухи применяли варварские приемы для ускорения за- медлившихся родов у женщин. Например, Н. Лесков в отчете о поездке к олонецким карелам рассказывает, что для вызова родов беременной женщине насыпали овес в подол рубахи, и она, наклонившись, скармливала его лошади. Находясь в полусидячем положении, женщина сама стимулировала начало родового процесса. Если же роды все равно не начинались, то роженицу привешивали к перекладине (orzipuu), представляющей собой продольную или поперечную жердь, проходящую от стенки к стенке, служащую у карелов для сушки сетей, лучины и т. д. Подвесив женщину, ей с силой давили на живот, таким образом выдавливая ребенка (д. Конче-зеро)5. Использовали и другие способы для вызывания родов: беременную заставляли бегать; ставили ее на четвереньки и дули в пустую бутылку; поили роженицу водой, в которой замешивали землю, собранную с перекрестка трех дорог, или паутину из углов дома, или порох; обмывали охотничье ружье и давали женщине выпить эту воду («Как ружье легко стреляет, так пусть и женщина легко родит») (Ухтинский, Кемский уезды); набирали воду мужским сапогом или обходили деревню с соленой водой и затем обмывали беременную этой же водой (д. Вох-тозеро); бросали камни в воду и произносили: «Как камень быстро идет на дно, так и ребенок пусть выйдет»; протаскивали роженицу через порог животом; вызывали у нее рвоту (Святозер-ская волость) [1; 16]. Если роды все-таки не начинались, то приступали к операции, используя ножницы и щипцы. Последствия таких операций часто были плачевными: заражение крови, повреждение родовых путей и зачастую смерть матери и ребенка6. Тем не менее, несмотря на риск получить увечья или умереть, крестьянки почти всегда предпочитали помощь бабок-повитух. Другого выбора у них практически не было, так как профессиональная помощь роженицам была налажена крайне плохо. Например, в 1886 году в Кемском уезде на одну профессиональную повитуху пришлось 260 родов в год, что делало физически невозможным ее присутствие на каждых родах.
Но, даже имея возможность получения помощи от акушерок и профессиональных повитух, карельские роженицы избегали пользоваться их услугами. Причина такого поведения крылась в отсутствии доверия. Акушерки и профессиональные повитухи появились в России лишь в конце XIX века, и им было очень сложно противостоять сильной репутации деревенских повитух. Считается, что на это было несколько причин: во-первых, не последнюю роль здесь играло положение в обществе: деревенские жители не доверяли профессиональным акушеркам в связи с сословными различиями. Во-вторых, крестьяне негативно относились к инструментам, которые применялись профессионалами при трудных родах, считая их использование грехом. И, в-третьих, огромные расстояния, бездорожье и денежные затраты [7; 111].
Чаще всего женщины рожали стоя. В связи с этим были распространены случаи ушибов младенцев при падении. Сразу же после рождения малыша пуповину перевязывали с особыми нашептываниями суровой ниткой или волосами матери, поближе к коже, отчего очень часто около пуповины образовывались язвочки. В летнее время в деревнях гибли до 17–20 % всех родившихся за год детей, выживали наиболее сильные и крепкие. Н. Лесков, путешествуя по Олонецкой Карелии, отмечал, что дети здесь растут как «дикое растение в лесу или крапива на задворках», они с 3–4 лет предоставлены сами себе. Родители берут на себя только функцию кормильцев. Бегающий ребенок у карел считался уже настолько взрослым, что родители не опасались оставлять его дома одного, что нередко приводило к трагедиям: «дети тонули в реках или озерах, захлебывались в колодцах или сжигали жилье»7.
После 7 лет снижалась детская смертность в результате болезней, изменялся и характер заболеваемости детей. Уменьшалось количество смертей, связанных с несчастными случаями. Дети 8–15 лет больше всего страдали от полученных травм, так как их активно привлекали к физическому труду (заготовка дров, выпас скота и т. д.). Кроме того, у детей этого возраста, особенно у мальчиков, наблюдался рост смертности из-за переохлаждения и простуды, так как они чаще бывали вне дома. Опасными болезнями этого возраста считались скарлатина, оспа и туберкулез. Установлено, что дети, перешагнувшие 10-летний возрастной рубеж, жили долго, если не заболевали эпидемическими болезнями [4; 56].
В Олонецком уезде использовались магические процедуры, направленные на оздоровление детей. Карелы верили, что некоторые лесные озера обладают чудодейственной силой. Если в семье заболевал ребенок, то карелка несла его к ламбушке, прямо в одежде погружала в воду, шепча при этом заклинания. Затем она раздевала ребенка и надевала на него новое, принесенное с собой белье, а старое с болезнью (в котором окунала) оставляла здесь, злым духам. Для этого знахарка втыкала в эту ламбушку палку и привязывала к ней детскую одежду «с недугом» [3; 47–48].
Неудивительно, что почти до конца XIX века, а в некоторых деревнях и до сих пор, люди пользовались услугами знахарей, средствами народной медицины, а зачастую просто полагались на Бога. Знахарство, имевшее богатые традиции в Карелии, долгие годы удерживало свои позиции среди населения. Крестьяне больше доверяли своим деревенским целителям и бабкам-повитухам, чем приезжим фельдшерам и акушеркам. Многочисленные вещества растительного, животного или минерального происхождения заменяли карелам лекарства, а бани, массажи и кровопускания служили средствами физиотерапии при лечении многих недугов и травм. В некоторой степени это было даже на пользу жителям Карелии, поскольку средства народной медицины нередко действовали лучше, чем лекарства, а знахари были искуснее, чем плохо обученные и порой спившиеся фельдшеры [7; 110]. Краевед И. Оленев, совершавший поездки по Кемскому уезду в 1895–1900 годах, отмечал, что народ охотно прибегал бы к медицинской помощи, но врачей было мало. Не всякий хороший фельдшер соглашался ехать работать в Карелию, и большинство из них в глухих уголках вскоре спивались. «И, конечно, такие фельдшера только профанируют медицину, вынуждая население обращаться к местным знахарям» [6; 54]. Подобную ситуацию констатировал И. Чирков: «Медицинской помощи население не получает никакой. Правда, есть в Ухте и фельдшерский пункт, но ухтяне потеряли веру в медицину…»8.
Для многих жителей средства официального здравоохранения были абсолютно чуждыми. Люди не соблюдали рекомендованную им дозировку лекарств, выпивая все сразу, в результате получая летальные исходы. В таких случаях обвиняли фельдшера, все больше теряя доверие к нему [7; 110]. Жители деревень охотно доверяли простым людям без медицинского образования. В одной из карельских деревень сельский учитель, не обладавший специальными медицинскими знаниями, собрал при школе домашнюю аптечку (лекарства посылались повенецким земством), и жители деревни часто обращались к нему за помощью. Внутренние болезни он, конечно, не мог лечить, но и фельдшер в таких случаях не помог бы. Между тем сделать перевязку, вылечить нарывы, дать лекарства против расстройства желудка, колотья, помазать мазью от чесотки учитель мог. Это были основные недомогания, которыми страдали крестьяне в то время [6; 55].
Итак, в 1860–1910 годах развитие профессиональной медицинской помощи в Карелии происходило очень медленно. Это объяснялось нехваткой образованных кадров, недостаточным финансовым обеспечением и устойчивыми религиозно-мифологическими традициями местного населения.
* Статья подготовлена в рамках комплекса мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.
PUBLIC HEALTH AND TRADITIONAL MEDICINE
IN KARELIAN VILLAGES IN LATE XIX – EARLY XX CENTURIES
Список литературы Государственное здравоохранение и народная медицина в карельской деревне в конце XIX -начале XX века
- Алимов Т. М. Знахарство в Карелии//В помощь просвещенцу. 1929. № 1. С. 17-28.
- Илюха О. П., Литвин Ю. В. Забота о здоровье матери и ребенка в карельской деревне конца XIX -начала XX вв.: семейные традиции и профессиональная медицина//Общество: философия, история, культура. 2012. № 3. С. 33-41.
- Илюха О. П. Представления о болезнях и способах лечения детей в карельской традиционной культуре (по данным конца XIX -начала XX в.)//Вопросы воспитания: Научно-практический журнал. 2011. № 1 (6). С. 41-51.
- Илюха О. П. Школа и детство в карельской деревне в конце XIX -начале XX в. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. 304 с.
- Образцы карельской речи/Сост. В. Д. Рягоев. Л.: Наука, 1980. 382 с.
- Оленев И. В. Карельский край и его будущее в связи с постройкою Мурманской железной дороги: Путевые очерки с многими рисунками. Гельсингфорс: Финское лит. об-во, 1917. 173 с.
- Шикалов Ю. Г. Здравоохранение в Кемском уезде в конце XIX -начале XX века//Народ, разделенный границей: карелы в истории России и Финляндии в 1809-2009 гг.: эволюция национального самосознания, религии и языка: Сборник научных статей/Науч. ред. Ю. Г. Шикалов, Ю. Кокконен. Joensuu; Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. С. 97-115.
- Tsikalov J. Vienassa elettiin kyllä pitkään, -jos vain hengissä selvittiin//Karjalan heimo. 2000. № 11-12. S. 154-156.