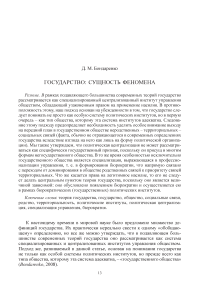Государство: сущность феномена
Автор: Бондаренко Д.М.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 238, 2015 года.
Бесплатный доступ
В рамках подавляющего большинства современных теорий государстворассматривается как специализированный централизованный институт управленияобществом, обладающий узаконенным правом на применение насилия. В противоположность этому, наш подход основан на убежденности в том, что государство следует понимать не просто как особую систему политических институтов, но в первуюочередь - как тип общества, которому эта система институтов адекватна. Следование этому подходу предопределяет необходимость уделить особое внимание выходуна передний план в государственном обществе неродственных - территориальных -социальных связей (факта, обычно не отражающегося в современных определенияхгосударства вследствие взгляда на него как лишь на форму политической организации). Мы также утверждаем, что политическая централизация не может рассматриваться как специфически государственный признак, поскольку он присущ и многимформам негосударственного общества. В то же время особенностью исключительногосударственного общества является специализация, выражающаяся в профессионализации управления, т. е. в формировании бюрократии, что напрямую связанос переходом от доминирования в обществе родственных связей к приоритету связейтерриториальных. Что же касается права на легитимное насилие, то его не следует делать центральным пунктом теории государства, поскольку оно является величиной зависимой: оно обусловлено появлением бюрократии и осуществляется еюв рамках бюрократических (государственных) политических институтов
Теория государства, государство, общество, социальные связи, родство, территориальность, политические институты, специализация управления, бюрократия, политическая централизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14328146
IDR: 14328146
Текст научной статьи Государство: сущность феномена
Холистический подход к государству, при котором оно рассматривается как тип социума, которому соответствует определенная система политических институтов, предопределяет необходимость обратить особое внимание на выдвижение в государственном обществе на передний план неродственных (территориальных) связей – обстоятельство, игнорируемое в современных определениях государства, авторы которых видят в нем лишь форму политической организации. Однако, как известно, первые теоретики государства в антропологии, Г. Мэйн (Мэн) (1873; 1876) и Л. Морган (2012), противопоставляли основанные на родстве догосударственные социумы («общества статуса», societas) территориально организованным обществам государственным («общества контракта», civitas). При этом уже на заре ХХ в. Г. Шурц (Schurtz, 1902), а окончательно – в середине прошлого столетия британские структуралисты и американские бо-асианцы наглядно показали, что Мэйн и Морган – как и позже следовавший за Морганом Ф. Энгельс (1985) – противопоставляли два принципа организации общества чрезмерно жестко. Ими и рядом других ученых были приведены убедительные свидетельства важности территориальных связей в негосударственных социумах. В результате уже в 1965 г. Й. Льюис имел все основания утверждать, что «принципиально территориальный характер социальных и политических связей в целом в самом деле обычно считается само собой разумеющимся и относящимся к сегментарным линиджным обществам в той же мере, что и к другим типам общества» (Lewis, 1965. P. 96). Год спустя Э. Уинтер категорично утверждал, что, хотя дихотомия родства и территориальности была «полезна», когда ее ввел Мэйн, «то время миновало» (Winter, 1966. P. 173). Примерно с тех же годов археологи и антропологи без колебаний пишут о территориальности как атрибуте даже наиболее архаических культур – неспециализированных охотников-собирателей (Campbell, 1968; Mobility and Territoriality…, 1992; и др.). Наконец, социобиологи, основываясь, прежде всего, на этнографических материалах по тем же обществам, утверждают, что «чувство территориальности» (ощущение определенной территории как своей и нежелание допускать на нее чужаков) – черта, присущая людям изначально, будучи унаследованной от до-человеческих предков (Ardrey, 1966; Malmberg, 1980).
Со своей стороны, историки (в особенности медиевисты) продемонстрировали, что типологически не-, а по происхождению – догосударственные институты родства сохраняли большое значение в доиндустриальных государственных обществах. С. Рейнолдс даже сетовала в 1990 г., что, хотя «все, что мы знаем о средневековом [западноевропейском] обществе не оставляет сомнений в важности родства, … мы (медиевисты. – Д. Б. ) в прошлом были склонны сосредотачиваться на родстве в ущерб другим связям» ( Reynolds , 1990. P. 4). Что же касается археологов, то к середине 1950-х гг. «опыт полевых исследований показывал снова и снова, что тысячи лет и во многих широтах родственные связи сосуществовали с докапиталистическим государством» ( Murra , 1980. P. XXI). В итоге стало понятно, что проблема родственного и территориального начал в организации социума – всегда вопрос соотношения между ними, а не присутствия или отсутствия одного из них, хотя общая тенденция социальной истории и в самом деле состоит в постепенном все большем замещении родственных институтов территориальными. При этом А. Тестар настаивает на исключении контроля над ясно очерченной территорией из определения государства, обращая внимание на то, что увязывание государства как коллектива сограждан с определенной территорией является лишь правовой традицией Нового времени ( Testart , 2005. P. 81, 82). Действительно, в архаических обществах власть суверена, как правило, воспринимается как власть над людьми, а не некой частью земной поверхности (см., например: African Frontier…, 1987).
Таким образом, нельзя не признать, что М. Фрид был предельно точен, утверждая, что государство базируется не на неродственной, а на «надродственной» социальной основе ( Fried , 1970. P. 692, 693).
Принимая во внимание вышесказанное, мы, тем не менее, согласны, что «наиболее фундаментальное… различие (между государственными и негосударственными обществами. – Д. Б. ) – то, что государства организованы по политическому и территориальному принципу, а не по родственному принципу…» ( Diamond , 1997. P. 280). Следовательно, мы также считаем «родство – территориальность» правомерным и заслуживающим внимания критерием различения государственных и негосударственных обществ ( Bondarenko , 2008. P. 19–22). Показательно, что даже высокоразвитые негосударственные общества, например сложные вождества, принято характеризовать как в основе своей родственные (см., например: Earle , 1997. P. 5). Что должно быть четко осознано и не забываться при использовании этого критерия – его эволюционная природа: «Деления [в обществе], основанные на родстве, постепенно утрачивают значение в пользу институциональных, политических и экономических делений» ( Tymowski , 2008. P. 172; выделено нами. – Д. Б. ). В этом смысле история есть континуум социально-политических форм, располагающихся в типологической последовательности. В этой последовательности можно обнаружить общую динамику от большей к меньшей важности родственных связей в сравнении с территориальными, которая в итоге привела к тому, что «родство и другие типы аскриптивных отношений перестали быть центральными организующими принципами общества» ( Hallpike , 1986. P. 1). Итак, ни в коем случае не стоит ожидать скачка от полного (или даже почти полного) доминирования родства к абсолютному преобладанию территориальных связей.
Мы не будем утверждать (в противоположность Мэйну, Моргану и Энгельсу), что государство в полном смысле слова, т. е. в его и социальном, и политическом значении, начинается тогда, когда территориальное деление общества вытесняет родственное практически полностью. Однако мы также не согласны с Х. Классеном, полагающим, что «зачаточное», но все же государство может «… ассоциироваться с доминирующими в политической сфере родственными, семейными и общинными связями» ( Claessen , 1978. P. 589)2. Наша позиция – промежуточная между постулатами классиков эволюционизма XIX в. и концепцией «раннего государства», главным создателем которой является Классен. Держа в уме старую идею о доминировании в государстве территориальных связей над родственными, с одной стороны, и учитывая вышеупомянутые достижения антропологов и историков ХХ в., мы будем исходить из того, что о государстве в полном смысле слова (государственном обществе) следует вести речь в ситуации, когда территориальные связи явно (но не подавляюще) доминируют над родственными на надлокальных уровнях сложности социума. Этот порог ниже установленного Мэйном и Морганом, но выше приемлемого для Классена и его последователей.
Фактически, в нашем понимании, «завершенное государство» (государственное общество) соответствует только «переходному раннему государству» в «канонической» схеме эволюции раннего государства, «…в котором в административном аппарате преобладали назначенные чиновники и где родство влияло только на отдельные второстепенные аспекты управления…» (Claessen, 1978. P. 589). Что же касается государства в узком, сугубо политическом смысле – «незавершенного государства», то таковым можно считать «типичное раннее государство»: «…вид государства, в котором родственные связи [еще только] уравновешивались территориальными, ... [но] где чиновники и обладатели титулов – неродственники [уже] играли ведущую роль в системе управления…» (Ibid.). Безусловно, такие категории, как «явное (но не подавляющее) доминирование», недостаточно четко определяемы и даже оставляют слишком много возможностей для проявления субъективизма и волюнтаризма исследователя – не как, например, при определении государства через категорию «отсутствие родственных связей». Но такая «мягкая» категоризация отражает и передает эволюционный характер, постепенность процесса формирования государства.
На еще один важный момент обратил внимание Д. Андерсон: «…существу-ет огромное количество социальных и природных факторов, способствующих организационной нестабильности в вождествах, среди которых тот факт, что наследование власти основывалось на родстве, и поэтому сколько угодно близких родственников вождя имели право занять его место, был, возможно, наиглавнейшим фактором, неизменно приводившим в таких обществах к непрерывной конкуренции между группировками и вооруженным столкновениям между соперничающими элитами» ( Anderson , 1997. P. 253). Это утверждение лежит в русле концепции Р. Коэна, постулирующего способность государства противостоять распаду как его важнейшую характерную черту ( Cohen , 1981). Вероятно, Коэн излишне категоричен, но всё же, как представляется, есть фактические и теоретические основания считать государство в целом более прочной социальнополитической конструкцией, нежели догосударственные сложные общества ( Tainter , 1988. P. 27). Залогом относительно большей устойчивости государства стали замена родства как базового организационного принципа территориальностью и появление в неразрывной связи с этим ( Diamond , 1997. P. 281; Bondarenko , 2006. P. 64) специализированной профессиональной администрации.
Надежным верифицируемым источниками признаком выдвижения на передний план территориальных связей (т. е. сложения «законченного государства») нам видится получение верховной властью права и практической возможности по своему усмотрению перекраивать традиционное, в основе своей общинное, членение территории страны. Если это так, то есть основания утверждать, что, даже если эти родственные образования сохраняют изначальные структуру и внутреннее самоуправление, они уже не более чем административные (в том числе налоговые) единицы государственного общества. Естественно для такой ситуации, они управляются лицами, назначенными или утвержденными вне общины – в политическом центре регионального или еще более высокого уровня. Особенно наглядные примеры вышесказанного дает Ближний Восток III–II тыс. до н. э.
Для раннего государства жизненно необходимо подчинить общину, адаптировать ее к своим нуждам: в противном случае политическая система быстро приходит в упадок (как, к примеру, в Кенедугу и державе Самори – западноафриканских политических образованиях XIX в. [ Tymowski , 1985; 1987. P. 65, 66]). В успешном государстве верховная власть не развивает далее общинную
«матрицу», «а наоборот, начинает реструктуризировать общество по своему подобию» ( Беляев , 2000. С. 195). Как правильно отмечает Д. Куртц, «… сокращение влияния на граждан [социально-политической] организации локального уровня» есть «главная цель» легитимационных стратегий государств ( Kurtz , 1991. P. 162). Если этого удается добиться, происходит «охват локальной сферы государством» ( Tanabe , 1996. P. 154), т. е. именно оно определяет форму и суть социально-политических институтов более низкого уровня, отношений в них. Действительно, даже в очень сложных негосударственных обществах (не менее сложных, чем многие ранние государства) наблюдается ситуация, при которой охват всей социально-политической конструкции происходит не «сверху» (как должно быть в государстве), а «снизу» – с уровня локальной общины. Государство стремится охватить все сферы общественной жизни, включая такую важную, как семейная ( Trigger , 2003. P. 194, 271, 274), и с его становлением ситуация, когда локальные институты (семья, линидж, община) прямо влияли на форму и суть институтов надлокальных, меняется на противоположную. Как и само появление и существование бюрократии, это становится возможным именно благодаря выдвижению на передний план территориальных связей: только в таких условиях человек, не связанный родственными узами ни с кем из членов общины, может эффективно выполнять функции главы или «куратора главы» общины, будучи назначенным извне. Реальность этого может служить еще одним верифицируемым признаком государственного характера общества.
На сегодняшний день в основе большинства теорий государства в антропологии лежат две приписываемые ему характеристики: политическая централизация и специализированная (бюрократическая) система управления. Также широко распространено убеждение в том, что «…тенденция к бюрократизации в раннем государстве была тесно связана с централизацией» ( Skalník , 1978. P. 600).
Однако, по нашему мнению, политическая централизация не должна считаться специфически государственной чертой, поскольку она присуща многим негосударственным формам социума, включая, в частности, вождество – «автономную политическую единицу, состоящую из некоторого количества деревень или общин, находящихся под постоянным контролем верховного вождя» ( Carneiro , 1981. P. 45). «…Централизованность – яснейший индикатор вожде-ства», – резюмирует в известном обзоре работ о вождестве Т. Ёрл ( Earle , 1987. P. 289). Еще более политическая централизованность очевидна в сложном вож-дестве – автономной политической единице, состоящей из некоторого количества вождеств, находящихся под постоянным контролем верховного вождя одного из них (см., например: Earle , 1978. P. 173–185; Pauketat , 1994; Johnson, Earle , 2000. P. 301–303). Более того, при определенных условиях власть может быть централизована даже в простых – не имеющих надобщинных институтов управления – обществах ( Sahlins , 1963; Godelier , 1982; Big Men…, 1991; Redmond , 1998. P. 3).
В то же время специализация управленческого аппарата, выражающаяся в его профессионализации, – особенность именно и исключительно государств. Не случайно в ее появлении ученые обычно видят грань между государством и всеми негосударственными формами социально-политической организации, включая политически централизованные вождества и сложные вождества. В конечном счете, Э. С. Годинер (1991. С. 51) в целом права, отмечая, что любая, даже самая сложная, теория сводит государство к «специализированному институту управления обществом»; по крайней мере, этот постулат является в них. Таким образом, мы согласны с тем, что, в частности, вождества – это «общества с централизованной, но не специализированной внутренне властью», а государства – «общества с централизованной и также внутренне специализированной властью» (Spencer, 1998. P. 5; см. также: Earle, 1987. P. 289). Как подчеркивал Ш. Айзенштадт (Eisenstatdt, 1971. P. 74, 76), государства и не-государства различаются не наличием или отсутствием политической централизации, а «…степе-нью структурной дифференциации, с которой они представляют себя. … О примитивных (догосударственных. – Д. Б.) обществах поэтому можно сказать, что в них наличествует децентрализованная центральность, если это выражение не слишком парадоксально». «Государственная администрация, с этой точки зрения, бюрократическая по самой своей природе», – заключает Ч. Спенсер (Spencer, 2003. P. 11185). Действительно, административный аппарат становится специализированным, когда он «наполняется» профессиональными управленцами, тем самым образующими бюрократию. Пусть в ранних государствах бюрократический аппарат может быть развит довольно слабо, все же следует полагать, что само его наличие необходимо для признания политической системы того или иного общества государственной. В то же время даже в наиболее сложных негосударственных обществах, таких как союзы племен или сложные вождества, система управления не была бюрократической.
Подход к феномену государства, основанный на выявлении его единой сущности и универсальных черт, в ХХ в. стал в равной мере характерен для марксистов, (нео)эволюционистов и структуралистов. Однако в настоящее время этот подход, коренящийся в европейской политической, философской, правовой и антропологической мысли начиная с Античности, иногда жестко критикуется и даже отвергается как проявление «колониального дискурса», но в первую очередь – на том основании, что, претендуя на универсальность, он исторически отражает исключительно западный подход к феномену государства и даже якобы основан на историческом опыте одной лишь Европы (в наиболее радикальной версии – только буржуазной Западной Европы Нового времени (Entrèves, 1969; Vincent, 1987; Белков, 1993; 1995; Creveld, 1999). Эта критика впервые возникла более полувека назад среди ученых из Третьего мира, в эпоху деколонизации стремившихся обосновать всесторонность своеобразия и уникальность сущности родных культур. Но с 1980-х гг. такой взгляд на проблему государства начал проявляться и в европейской теоретической мысли. Мы же полагаем, что европоцентризм теории государства обусловлен тем фактом, что зрелая современная наука как таковая родилась в постсредневековой Европе как итог ее развития в Древности и Средневековье. Сам современный научный метод мышления, включая антропологическую мысль, глубоко коренится в европейской традиции. Европейское интеллектуальное наследие более очевидно в общественных науках, но если бы могли существовать культурно обусловленные варианты естественных наук, то, несомненно, велись бы дискуссии и о европоцентризме в физике или химии. Современная наука как способ познания мира по происхождению и сути – феномен европейский. В этом смысле все современные науки изначально были и всегда будут в той или иной мере евро-поцентричными. Именно обществоведы должны обращать на это особое внимание, но этот факт, по нашему убеждению, отнюдь не лишает смысла поиски универсальных критериев и определения государства, его места во всемирной социальной истории.
Список литературы Государство: сущность феномена
- Но не всегда: важнейшим исключением является Европа, в ряде регионов которой (Греции, Италии, Скандинавии) однолинейные родственные институты исчезли уже на грани бронзового и железного веков, уступив место нуклеарной семье и территориальной соседской общине (см., например: Roussel, 1976; Фролов, 1988. С. 79, 80; Дождев, 2002; Earle, 1997. P. 25, 26, 163; Kristiansen, 1998. P. 45, 46)
- нашу дискуссию с Классеном по этому вопросу (Bondarenko, 2008. P. 23; Claessen et al., 2008. P. 245, 246)
- Белков П. Л., 1993. Проблема генезиса государства: перерастает ли вождество в государство?//Цивилизации Тропической Африки: общества, культуры, языки: Мат-лы выездной сессии, проведенной Научным советом по проблемам Африки, г. Санкт-Петербург, 5-7 мая 1992 г./Отв. ред. И. В. Следзевский. М.: ИАфр РАН. С. 29-40.
- Белков П. Л., 1995. Раннее государство, предгосударство, протогосударство: игра в термины?//Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности/Отв. ред. B. А. Попов. М.: Восточная литература. С. 165-187.
- Беляев Д. Д., 2000. Раннее государство у майя классического периода: эпиграфические и археологические данные//Альтернативные пути к цивилизации/Ред. Е. В. Комарова. М.: Логос. C. 186-196.
- Годинер Э. С., 1991. Политическая антропология о происхождении государства//Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения/Отв. ред. С. Я. Козлов, П. И. Пучков. М.: Наука. С. 51-77.
- Дождев Д. В., 2002. Рим (VIII-II вв. до н. э.)//Цивилизационные модели политогенеза/Отв. ред. Д. М. Бондаренко, А. В. Коротаев, М. Л. Бутовская и др. М.: ЦЦРИ РАН. С. 275-305.
- Морган Л. Г., 2012. Древнее общество, или Исследование линий общественного прогресса от дикости через варварство к цивилизации. М.: ЛиброКом. 360 с. Мэн Г. С., 1873.
- Древнее право. Его связь с древней историей общества и его отношение к новым идеям. СПб.: Кожанчиков. 312 с.
- Мэн Г. С., 1876. Древнейшая история учреждений: лекции. СПб.: Знание. 319 с.
- Фролов Э. Д., 1988. Рождение греческого полиса. Л.: ЛГУ. 266 с.
- Энгельс Ф., 1985. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.: Политиздат. 238 с.
- African Frontier., 1987 -The African Frontier: The Reproduction of Traditional African Societies/Ed. I. Kopytoff. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press. 288 p.
- Anderson D. G., 1997. The Role of Cahokia in the Evolution of Southeastern Mississippian Society//Cahokia Domination and Ideology in the Mississippian World/Eds T. R. Pauketat, T. E. Emerson. Lincoln; London: University of Nebraska Press. P 248-268.
- Ardrey R., 1966. The Territorial Imperative: A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nation. N. Y: Atheneum. 400 p.
- Big Men., 1991 -Big Men and Great Men: Personification of Power in Melanesia/Eds M. Godelier, M. Strathern. Cambridge: Cambridge University Press; Paris: Editions de la Maison des Sciences de l’Homme. 328 p.
- Bondarenko D. M., 2006. Homoarchy: A Principle of Culture’s Organization. The 13th-19th Centuries Benin Kingdom as a Non-State Supercomplex Society. Moscow: KomKniga. 184 p.
- Bondarenko D. M., 2008. Kinship, Territoriality and the Early State Lower Limit//Social Evolution and History. Vol. 7. Iss. 1. P. 19-53.
- Campbell J. M., 1968. Territoriality among Ancient Hunters: Interpretations from Ethnography and Nature//Anthropological Archaeology in the Americas/Ed. B. J. Meggers. Washington: Anthropological Society of Washington. P. 1-21.
- Carneiro R. L., 1981. The Chiefdom: Precursor of the State//The Transition to Statehood in the New World/Eds G. D. Jones, R. R. Kautz. Cambridge: Cambridge University Press. P. 37-79.
- Claessen H. J. M., 1978. The Early State: A Structural Approach//The Early State/Eds H. J. M. Claessen, P. Skalnik. The Hague: Mouton. P. 533-596.
- Claessen H. J. M., 2003. Aspects of Law and Order in Early State Societies//The Law’s Beginnings/Ed. F. J. M. Feldbrugge. Leiden: Brill/Nijhoff P. 161-179.
- Claessen H. J. M., Hagesteijn R. R., Velde P. van de, 2008. Early State Today//Social Evolution and History. Vol. 7. Iss. 1. P. 245-265.
- Cohen R., 1981. Evolution, Fission, and the Early State//The Study of the State/Eds H. J. M. Claessen, P. Skalnik. The Hague: Mouton. P. 87-116.
- Creveld M. van, 1999. The Rise and Decline of the State. Cambridge: Cambridge University Press. 448 p.
- Diamond J., 1997. Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies. N. Y; London: Norton. 496 p.
- Earle T. K., 1978. Economic and Social Organization of a Complex Chiefdom: The Halelea District, Kaua’i, Hawaii. Ann Arbor: University of Michigan Press. 205 p.
- Earle T. K., 1987. Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Perspective//Annual Review of Anthropology. Vol. 16. P. 279-308.
- Earle T. K., 1997. How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory. Stanford: Stanford University Press. 268 p.
- Eisenstadt S. N., 1971. Social Differentiation and Stratification. Glenview; London: Scott, Foresman and Company. 248 p.
- EntrèvesA. P. d', 1969. The Notion of the State. An Introduction to Political Theory. Oxford: Clarendon Press. 233 p.
- Fried M. H., 1970. On the Evolution of Social Stratification and the State//The Logic of Social Hierarchies/Eds E. O. Laumann, P. M. Siegel, R. W. Hodge. Chicago: Markham. P. 684-695.
- Godelier M., 1982. La Production des Grands Hommes. Paris: Fayard. 373 p.
- Hallpike C. R., 1986. The Principles of Social Evolution. Oxford: Clarendon Press. 288 p.
- Johnson A. W., Earle T. K., 2000. The Evolution of Human Societies. From Foraging Group to Agrarian State. Stanford: Stanford University Press. 456 p.
- Kristiansen K., 1998. Europe before History. Cambridge: Cambridge University Press. 540 p.
- Kurtz D. V., 1991. Strategies of Legitimation and the Aztec State//Anthropological Approaches to Political Behavior/Eds F. McGlynn, A. Tuden. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. P. 146-165.
- Lewis I. M., 1965. Arguments with Ethnography. Comparative Approaches to History, Politics and Religion. London; New Brunswick: Athlone Press. 208 p.
- Malmberg T., 1980. Human Territoriality. Survey of Behavioral Territories in Man with Preliminary Analysis and Discussion of Meaning, The Hague: Mouton. 346 p.
- Marcus J., Feinman G. M., 1998. Introduction//Archaic States/Eds G. M. Feinman, J. Marcus. Santa Fe: School of American Research. P 3-13.
- Mobility and Territoriality., 1992 -Social and Spatial Boundaries among Foragers, Fishers, Pastoralists and Peripatetics/Eds M. J. Casimir, A. Rao. Oxford: Berg. 404 p.
- Murra J. V., 1980. The Economic Organization of the Inca State. Greenwich: JAI Press. 640 p.
- Pauketat T. R., 1994. The Ascent of Chiefs: Cahokia and Mississippian Politics in Native North America. Tuscaloosa; London: University of Alabama Press. 235 p.
- Redmond E. M., 1998. The Dynamics of Chieftaincy and the Development of Chiefdoms//Chiefdoms and Chieftaincy in the Americas/Ed. E. M. Redmond. Gainesville: University Press of Florida. P. 1-17.
- Reynolds S., 1990. Kingdoms and Communities in Western Europe, 900-1300. Oxford: Clarendon Press. 387 p.
- Roussel D., 1976. Tribu et cité: Etudes sur les groupes sociaux dans les cités grecques aux epoques archaïque et classique. Paris: Plon. 347 p.
- Sahlins M. D., 1963. Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief: Political types in Melanesia and Polynesia//Comparative Studies in Society and History. Vol. 5. P. 285-303.
- SchurtzH., 1902. Alterklassen und Männerbünde. Eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft. Berlin: Reimer. 458 S.
- Skalnik P., 1978. The Early State as a Process//The Early State/Eds H. J. M. Claessen, P. Skalnik. The Hague: Mouton. P. 597-618.
- Spencer C. S., 1998. A Mathematical Model of Primary State Formation//Cultural Dynamics. Vol. 10. P. 5-20.
- Spencer C. S., 2003. War and Early State Formation in Oaxaca, Mexico//PNAS USA. Vol. 100. P. 11185-11187.
- Tainter J. A., 1988. The Collapse of Complex Societies. Cambridge: Cambridge University Press. 264 p.
- Tanabe A., 1996. Indigenous Power, Hierarchy and Dominance: State Formation in Orissa, India//Ideology and the Formation of Early States/Eds H. J. M. Claessen, J. G. Oosten. Leiden: Brill. P. 154-165.
- TestartA., 2005. Eléments de classification des sociétés. Paris: Editions Errance. 160 p.
- Testart A., 2012. Comment on L. R. Carneiro’s Article on the Origin of the State: «The Circumscription Theory: A Clarification, Amplification, and Reformulation»//Social Evolution and History. Vol. 11. Iss. 2. P. 105-109.
- Trigger B. G., 2003. Understanding Early Civilizations: A Comparative Study. Cambridge: Cambridge University Press. 757 p.
- Tymowski M., 1985. The Evolution of Primitive Political Organization from Extended Family to Early State//Development and Decline. The Evolution of Sociopolitical Organization/Eds H. J. M. Claessen, P. van de Velde, M. E. Smith. South Hadley: Bergin and Garvey. P. 183-195.
- Tymowski M., 1987. The Early State and After in Precolonial West Sudan. Problems of the Stability of Political Organizations and the Obstacles to Their Development//Early State Dynamics/Eds H. J. M. Claessen, P. van de Velde. Leiden: Brill. P. 54-69.
- Tymowski M., 2008. State and Tribe in the History of Medieval Europe and Black Africa -a Comparative Approach//Social Evolution and History. Vol. 7. Iss. 1. P. 171-197.
- Vincent A., 1987. Theories of the State. London: Blackwell. 260 p.
- Winter E. H., 1966. Territorial Groupings and Religion among the Iraqw//Anthropological Approaches to the Study of Religion/Ed. M. Banton. London: Tavistock. P. 155-174.