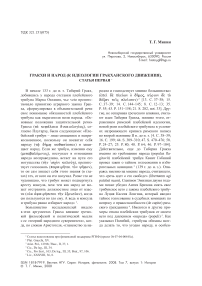Гракхи и народ (к идеологии гракханского движения). Статья первая
Автор: Мякин Т.Г.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736949
IDR: 14736949 | УДК: 321.151(075)
Текст статьи Гракхи и народ (к идеологии гракханского движения). Статья первая
Большинство исследователей видело в этих аргументах Гракха влияние греческой философской и политической мысли с ее «теорией народного суверенитета», когда, по словам Аристотеля, «главенство за на- родом и господствует мнение большинства» (ejpei< de< plei>wn oJ dh~mov, ku>rion de< to< do>xan toi~v plei>osin) 2 [13. С. 37–38; 15. С. 37–39; 14. С. 144–145; 8. С. 12–13; 35. P. 55; 43. P. 151–158; 21. S. 282, not. 33]. Другие, не оспаривая греческого влияния, считают идеи Тиберия Гракха, помимо этого, отражением римской плебейской идеологии, новой роли плебейского трибуната в условиях назревающего кризиса римского полиса во второй половине II в. до н. э. [4. С. 38–39; 16. С. 199; 44. S. 309–310; 47. S. 470–476; 50. P. 24–27; 25. P. 80; 48. P. 64; 46. P. 97–104]. Действительно, еще до Тиберия Гракха именно по требованию народа (populus fla-gitavit) плебейский трибун Квинт Габиний провел закон о тайном голосовании в избирательных комициях 3 (139 г. до н. э.). Опираясь именно на мнение народа, считавшего, что «речь идет о его свободе» (libertatem agi putabat suam), Сципион Эмилиан двумя годами позже убедил Антия Бризона снять свое трибунское вето с закона плебейского трибуна Луция Кассия Лонгина, который вводил тайное голосование в судебных комициях по вопросу о правоспособности (de capite) римского гражданина 4. Имеются и другие примеры отказа плебейских трибунов от своего вето под давлением «народа» (populi) 5. Как указывал Полибий, «трибуны обязаны всегда делать то, что угодно народу, и особен-
∗ Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 07-04-00445а).
но прислушиваться к его воле» (’O fei>lousi d jajei< poiei~n oiJ dh>marcoi to< dokou~n tw|~ dh>mw| kai< ma>lista stoca>zesqai th~v tou>tou boulh>sewv ) 6 (см.: [17. С. 77; 37. P. 66–67; 22. P. 185; 28. P. 110–112]).
В современной отечественной историографии, однако, преобладает точка зрения Р. Сайма и Й. Бляйкена, согласно которой прямое обращение такого аристократа, как Тиберий Гракх, в его конфликте с коллегой по трибунату к народу явилось «смутой» (se-ditio), инспирированной одним человеком в узко-групповых целях (ср.: [49. P. 60; 21. S. 287–290; 3. С. 380; 40. S. 22–29; 10. С. 16; 19. С. 71, 73; 6. С. 70–72, 75]) 7. Отмечается, что «соавторами» ( su>mboloi ) или даже «авторами» (auctores) аграрного закона Тиберия Гракха были виднейшие представители сенатской аристократии – консуляр и принцепс сената Аппий Клавдий Пульхр, а также «мудрейшие и славнейшие» (sapientissimos et cla-rissimos) преторий Публий Лициний Красс и Публий Муций Сцевола, известный юрист и консул 133 г. до н. э. [21. S. 276; 5. С. 191; 7. С. 185–187; 11. С. 334–335, 342] 8. В соответствии с этим, высказанная Тиберием Гракхом идея «народного суверенитета» оказывается уже демагогией выдвиженца нобилитета, истоки которой – то ли в непризнании «добропорядочными мужами» (bonis) заключенного при посредничестве Тиберия договора с Ну-манцией, то ли в злокозненных советах философа Блоссия из Кум и ритора Диофана из Митилены [10. С. 21; 1. С. 277, 284–286; 3. С. 314, 362–365; 14. С. 145; 21. S. 272, 277; 20. С. 21–26; 30. P. 52–53] 9.
С нашей точки зрения, однако, вопрос о месте и роли народа в политике Гракхов должен решаться, прежде всего, на основе анализа соответствующего законодательства Гая Гракха, а также политических традиций фамилии Гракхов в целом. Действительно, согласно Цицерону, Гай Гракх «пожелал доказать свою преданность брату, а не отечеству» (fratri pietatem, quam patriae praestare voluisset), по Веллею Патеркулу – младшего
Гракха «охватило то же самое безумие, (что и брата)» (idem occupavit furor), а если следовать Плутарху, – обоим Гракхам «суждена (была) одна жизнь и одна смерть в борьбе за народное правление» ( ajlljei=v men< hJmi~n ajmfoter> oiv bi>ov, eiv= de< qa>natov upJ er< tou~ dhm> ou politeuome>noiv pe>prwtai ) 10. Так, с точки зрения Веллея Патеркула, Плутарха и Диона Кассия, многие законы, внесенные позднее Гаем Гракхом, были задуманы еще его старшим братом 11. Позиция Плутарха, на наш взгляд, здесь особенно важна по той причине, что он, составляя жизнеописание Грак-хов, опирался, по-видимому, на подлинные речи Тиберия Гракха и комментарии к ним (см.: [12. С. 37, 19, прим. 21; 22. P. 216]; cр.: [26. P. 42–43]). В соответствии с этим, прояснить политические идеалы Гракхов в значительной мере сможет внимательный анализ данных античной традиции о двух (или трех) первых законопроектах Гая Гракха, с которыми он выступил сразу после своего избрания в плебейские трибуны на 123 г. до н. э.
Первым из этих законов Плутарх называет закон, «не дозволяющий участвовать в (выборной) власти (ajrch~v metousi>an) тому, кого народ (oJ dh~mov) ранее сместил с занимаемой должности» (ajfh|rh|~to th Упомянутые события, скорее всего, представляют собой какую-то римскую плебейскую традицию и относятся к трем первым векам Республики. Так, например, окончательное покорение фалисков датируется, по Ливию, 240–239 гг. до н. э. 15 В свою очередь, говоря о Гае Ветурии, Гай Гракх, по-видимо-му, имел в виду того самого консуляра Гая Ве-турия, о котором Тит Ливий и Дионисий Галикарнасский сообщают, что он был осужден по предложению трибунов судом народного собрания за «преступление против народа» (ajdikh>matov dhmosi>ou) – «насильственные действия в отношении трибунов» (bi>a| eijv tou Не свидетельствует ли этот приведенный Гаем Гракхом «аргумент» в пользу того, что экс-магистраты, лишенные политических прав в соответствии с предложенным им законом, также обвинялись в «преступлении против народа»? Один важный пример, близкий к тем, что приводит Гай Гракх, подтверждает наши догадки, позволяя с достаточной точностью определить, какое именно преступление по закону Гракха инкриминировалось магистрату, отрешенному народом от должности. По словам Цицерона, отец плебейского трибуна Гая Фламиния «умалил величество» римского народа (minuit maiestatem) тем, что своей отцовской властью заставил сына покинуть «собрание плебса» (concilium plebis), которое тот созвал как трибун (231 г. до н. э.) 17. Преступление отца Гая Фламиния, как мы видим, очень схоже с тем «преступлением против народа» (ajdikh>matov dhmosi>ou), за которое, согласно Гаю Гракху и Дионисию Галикарнасскому, был осужден Гай Ветурий, и в котором, скорее всего, следует видеть именно «умаление величества римского народа» (maies-tatis populi Romani minutio). По-видимому, именно это преступление на основании закона Гракха теперь должно было инкриминироваться всякому магистрату (включая плебейского трибуна), которого римский народ отрешит от должности. В соответствии с наиболее близким по времени к эпохе Гракхов определением анонимной «Риторики к Гереннию», «величество римского народа» – это то, «что составляет величие гражданской общины» (ex quibus rebus civitatis amplitudo constat) 18. Иными словами, если следовать Цицерону, – это само «величие и достоинство гражданской общины» (amplitudo ac dignitas civitatis) 19. Имея опору в религии, понятие «величества римского народа» (maiestas populi Romani), выражало, как обоснованно отмечал Ж. Элле-гуар, принцип «абсолютного политического доминирования» римского народа как избранника богов, «обеспечивающих его приумножение и величие» [31. P. 318]. Свое «величество» римский народ, согласно Цицерону, распространяет и на избранных народом должностных лиц, «которым он предоставил власть» (quibus populus potestatem dedit) 20. В соответствии с этим, и народы, признавшие гегемонию Рима (в примере Гая Гракха – это фалиски), и сами римляне обязаны «блюсти величество римского народа» (maiestatem populi Romani conservari) и его должностных лиц, например – плебейских трибунов 21. Но и должностные лица обязаны вести себя «соответственно (этому) величеству» (pro maiestate) 22. В пользу этого говорит обычай преклонять перед «народным собранием» (contio) фасции – символ магистратской власти 23. Гай Гракх, как показывают приводимые им примеры, по-видимому, приравнял в своем законе к «умалению величества римского народа» всякое действие должностного лица, идущее вразрез с имеющейся волей народного собрания. При этом, лишая экс-магистрата за неподобающие действия политической правоспособности, плебейский трибун, по закону Гракха, оказывался как бы в роли цензора, а созываемые им трибутные комиции – в роли комиций центуриатных, поскольку их решением затрагивалась здесь «гражданская правоспособность» (caput civis) осуж- 18 Rhet. Her., II, 17, 3. 19 Cic., De orat., II, 165. 20 Cic., De inv., II, 53; Cic., Pro Rab. perd., 20. 21 Cic., Pro Balb., 35–36; Cic., De inv., II, 52–53. 22 Liv., XXI, 63, 10. 23 Ibid., II, 7, 7. денного 24. Закон Гая Гракха, по-видимо-му, давал здесь специфически плебейскую интерпретацию известным положениям Законов XII Таблиц, по которым вопрос о caput римского гражданина решают «величайшие комиции» (comitiatus maximus) 25. Вероятно, таковыми по новому закону считались комиции трибутные (cр.: [36. P. 151]). Действительно, согласно Диодору Сицилийскому, того же Марка Октавия, как трибуна, отрешенного народом от должности, по закону Гракха «осудила на изгнание толпа» (tw~n o]clwn krina>ntwn ejkbalei~n) 26. Понятие o]clov, близкое по своему значению к to< plh~qov у Плутарха, возможно, соответствует здесь латинскому plebs и указывает на то, что решение принималось трибутными ко-мициями (см.: [31. P. 507; 48. P. 116, not. 3]). Ведь Диодор, как показали работы Г. Климке, П. Боттери и М. Раскольниковой, в своем рассказе о Гракхах пользовался, быть может, и латинскими источниками [34. S. 9–11, 17–20; 24. P. 94]. Впрочем, это, при всей своей вероятности, лишь только предположение (ср.: [51. P. 214]). Как бы то ни было, рассматриваемый закон Гая Гракха в самой радикальной форме апеллировал к традициям антипатрици-анской борьбы римского плебса, чьи предки «ради обретения прав и утверждения (своего) величества дважды уходили и вооруженные занимали Авентин» (parandi iuris et maiestatis constituendae gratia bis per seces-sionem armati Aventinum occupavere) 27. Действительно, из речи Гая Меммия у Саллюстия, которая, как известно, представляет собой «изложение» (perscribere) подлинной речи этого плебейского трибуна, прямо следует, что целью Гракхов было именно «возвратить плебсу свое» (plebi sua restituere) 28. Гай Меммий, обращаясь к плебсу, под «своим» (sua) подразумевал здесь принцип политического доминирования народа и его законов: ведь после убийства Гракхов всем завладели «немногие» (paucos), попирая «законы, величество ваше, все божеское и человеческое» (leges, maiestas vostra, divina et hu- mana omnia) 29. Отстаивая верховенство этого принципа, Гракхи, по Меммию, защищали «свободу» (libertas), которую римский народ унаследовал от своих предков 30. Таким образом, в историческом плане некорректно вслед за Веллеем Патеркулом и Флором сводить закон Гая Гракха, воспрещающий отставленным экс-магистратам вновь избираться на должности, к акту личной мести или «стремлению запугать своих противников», как это делали, скажем, Т. Моммзен, Э. Мейер, В. Юдейх, Э. Фельсберг, Ж. Каркопино и Г. Блок (см.: [11. С. 351–352; 40. S. 10–11; 16. С. 215; 33. S. 480; 23. P. 241; 3. С. 404–405]) 31. Напротив, вновь приведенные нами аргументы свидетельствуют в пользу правильности выводов К. В. Нича, Х. Ласта, Д. Стоктона и Э. Линтотта, так или иначе связывавших эту меру Гая Гракха с плебейской традицией в римской политике [44. S. 391; 35. S. 55; 48. S. 117; 46. S. 162; 37. S. 78]. К тому же принятый закон был, по-видимому, лишен по предложению Гая Гракха обратной силы, и законодатель согласно Диодору, «простил Октавия, хотя толпа и осудила его на изгнание из города, сказав народу, что делает это ради своей матери, просившей за него» (tw~n o]clwn krina>ntwn ejkbalei~n to Исторические «примеры» расправы с теми, кто, оскорбив трибунов, посмел «умалить величество римского народа», были в речах Гая Гракха важным аргументом и в пользу принятия второго его закона – закона о том, «чтобы относительно гражданской правоспособности римских граждан не было судебного решения без вашего (т. е. народа) приказа» (ne de capite civium Roma-norum injussu vestro judicaretur) 34. При этом Гай Гракх не только упрекал народ в том, что он оставил безнаказанным убийство Тиберия Гракха. Смертные приговоры, вынесенные приверженцам Тиберия сенатской судебной комиссией под председательством Публия Попилия Лената, по мнению Гая Гракха, также противоречат установлениям предков, а потому незаконны. «У вас (т. е. у римского народа. – Т. М.), – говорил он, – от отцов повелось, что если не являются (на) суд, (грозящий) смертной казнью (di>khn qanatikh Не позволяя решать вопрос «о гражданской правоспособности» (de capite civium) «без приказа» (iniussu) народа, закон Гая Гракха, согласно Плутарху, «предоставлял народу судить того, кто, отправляя выборную должность, изгонял гражданина без суда» (ei] tiv a]rcwn a]kriton ejkkekhru>coi poli>thn, kata< tou>tou kri>sin dido>nta tw|~ dh>mw|) 38. По точному смыслу слов Плутарха и Цицерона, на основании этого закона подлежал суду народа всякий магистрат, когда-либо во время своей магистратуры лишивший римского гражданина его прав без санкции комиций. Многие исследователи, принимая во внимание Цицерона и Диодора, отмечали здесь личную заинтересованность законодателя – стремление отомстить Публию Попилию Ленату за его соучастие в убийстве Тиберия Гракха и последующую расправу с его приверженцами в 132 г. до н. э. 39 Ведь, по Цицерону Гай Гракх «разжег народ» (populum incitasset) непосредственно «против Лената» (contra Laenatem) 40. Согласно же Диодору, когда большинством в 18 триб этот закон Гая Гракха был утвержден, то он, торжествуя, воскликнул: «меч навис над (моими) врагами, а во остальном положимся на то, что даст удача» (to< me Однако у того же Цицерона читаем, что Гай Гракх, находясь на момент убийства Тиберия в лагере Сципиона под Нуманцией, «по крайней мере, тогда всего менее» (mi-nime tum quidem) одобрял поведение брата. И только по возвращении в Рим, – и, надо думать, по внимательном ознакомлении с обстоятельствами случившейся трагедии – он стал «совершенно непримирим» (acerri-mus) к сенату 42. Эта немаловажная оговорка свидетельствует, на наш взгляд, именно в пользу того, что закон, направленный против врагов Тиберия Гракха, был предложен Гаем Гракхом, по крайней мере, не только из желания отомстить за смерть брата. На наш взгляд, большинство историков с полным основанием видит в законе Гая Гракха «о гражданской правоспособности» (de capite civis), прежде всего, акт, защищавший «старые права комиций» [44. S. 391; 35. P. 56–57; 48. P. 118–119; 43. P. 112–113; 46. P. 161–162; 38. P. 65, 155; 37. P. 77–78]. Действительно, с точки зрения римской литературной традиции, право гражданина на апелляцию к народу против приговора магистрата – это не просто «защитник государства и заступник свободы» (patronam illam civitatis ac vindi-cem libertatis), но и, вообще, сама «свобода» (libertas) 43. Ее завоевал плебс, когда после падения децемвирата законом консулов (преторов) Луция Валерия и Марка Горация было запрещено «на все последующее время» (in posterum) под страхом смертной казни избирать магистрата, на чей приговор нельзя было бы апеллировать к народу (449 г. до н. э.) 44. Показательно, что в обвинительных речах против Попилия Лената, которые Гай Гракх произносил и на форуме «перед рострами» (pro rostris), и «обходя собрания» (cum circum conciliabula iret), он обвинял комиссию Попилия именно в надругательстве над свободой римских граждан: «свободных людей теперь (безнаказанно) убивают в городе» (homines liberi nunc in oppido occisi-tantur) 45. Замечание Саллюстия, что Гракхи, «начали разоблачать преступления немногих и требовать свободы для плебса» (vindicare plebem in libertatem et paucorum scelera patefacere), по нашему мнению, логично связать именно с приведенными высказываниями младшего Гракха и его борьбой за традиционное право апелляции, «свободу» и «величество» римского народа и его трибунов 46. Действительно, в глазах римской политической элиты, «апелляция к народу» (provocatio), как нечто тождественное «свободе» (libertas), соотносилась именно с представлением о «законном требовании» (vindicia) или «(законном) судебном заступнике» (vindex), который «выступает с требованием» (vindicat). Так, Сципион Эмилиан у Цицерона замечает, что «сама свобода утратила право (заявлять) требования» (vindicias amisisset ipsa libertas), когда в Риме были «децемвиры без права апелляции (на них) к народу» (decemviri sine provocatione) 47. Публий Валерий Попликола, первым предложивший закон о праве апелляции к народу, с точки зрения Цицерона, стяжал «славу, требуя свободы для отечества» (laudem patriae in libertatem vindicandae) 48. У Ливия само слово «апеллирую к народу» (provoco), символизировавшее право апелля- ции и чеканившееся в эпоху Гракхов на монетах, определяется как «единственный заступник свободы» (una vindex libertatis) [43. P. 114–115] 49. Понятно, что тот представитель политической элиты, который противопоставляет себя сенату, ищет поддержки плебса, хочет «требовать свободы» (vindicare in libertatem), должен, прежде всего, защищать «величество» римского народа, его судебную власть, достоинство плебейских трибунов. Так, Гай Меммий, обвиняя сенаторов в том, что они предали Югурте «величество» (maiestas) римского народа, «побуждает народ заявить требование» (populum ad vindicandum hortari) и не «оставить свою свободу» (ne libertatem suam desererent) 50. Для того чтобы во время войны с Помпеем солдаты италийской армии приняли сторону Цезаря, последнему было достаточно заявить, что он перешел Рубикон с целью «восстановления плебейских трибунов в их достоинстве» (tribunos plebis in suam dignitatem restitueret) и «освобождения римского народа, угнетенного немногочисленной кликой» (populum Romanum factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret) 51. На наш взгляд, именно восстановление «свободы» и «величества» римского народа (а также достоинства плебейских трибунов) имел в виду Гай Гракх, когда, согласно Диодору, «объявил перед народом о низвержении аристократии и установлении демократии» (dhmhgorh>sav peri< tou~ katalu~sai ajristokrati>an, dhmokrati>an de< susth~sai) 52. В любом случае, неправомерно видеть здесь лишь только свидетельство воздействия на Гая Гракха эллинистических образцов, как это делают П. Боттери и М. Раскольникова [24. P. 99–100]. Ведь в контексте рассказа Диодора приведенное высказывание Гракха как раз знаменует декларируемую им главную идею его законодательства. Действительно, обоснованный «историческими» примерами борьбы плебса за свое «величество» закон Гая Гракха о «гражданской правоспособности» (de capite civis) защищал права, уже гарантированные «законом Валерия об апелляции к народу» (lex Valeria de provocatione), который традиция связывает то с Валерием Попликолой, то с Марком Валерием Корвом, консулом 300 г. до н. э. Согласно Дионисию Галикарнасскому, по закону Валерия, если «какой-либо магистрат» (eja>n tiv a]rcwn) захочет кого-либо «казнить» (ajpoktei>nein), «высечь» (mastigou~n) или «наказать денежным штрафом» (zhmiou~n eijv crh>mata), то, прежде чем решение магистрата вступит в силу, «частному лицу позволено вызвать магистрата на суд народа» (ejxei~nai tw|~ ijdiw>th| prokalei~sqai th Можно ли считать, в таком случае, закон Гая Гракха о «правоспособности гражданина» (de capite civis) лишь только необходимым подтверждением закона Валерия, вызванным противоправными действиями комиссии Публия Попилия Лената? Большинство исследователей видит новизну этой меры Гракха, прежде всего, в том, что, отстаивая верховенство «суда народа», он законодательно подтверждал право апелляции к народу на приговоры «сенатских судебных комиссий» [16. С. 216; 44. P. 391; 35. P. 56; 30. P. 82; 48. P. 118–119; 46. P. 160–161; 37. P. 77–78]. Другие считают закон Гая Грак-ха актом, специально направленным против преступных действий комиссии Лената [38. P. 142–143, 155]. Очевидно, что Гай Гракх в своем законодательстве стремился переломить имевшуюся тенденцию к ослаблению контроля над выборными магистратами со стороны народного собрания, которая тогда отчетливо про- слеживается как в сфере внешней, так и в сфере внутренней политики (ср.: [2]) 55. Возможно именно поэтому закон Гракха «о гражданской правоспособности» и получил, в соответствии с волей народа, обратную силу. Однако действительная новизна предложений Гая Гракха заключается, по-видимому, в следующем. Как показывает аргументация самого Гракха 56 (см. выше), он в этом законе (как и в законе «об отрешенных от должности») прямо приравнивал действия обвиняемых экс-магистратов к «умалению величества римского народа» (minutio maiestatis populi Romani). В связи с этим, как свидетельствуют фрагменты речей Гракха против Лената, и некоторые высказывания Цицерона, Гай Гракх требовал для виновных в данном «государственном преступлении» (perduellio-nis) исключительной меры наказания – смертной казни на кресте. Действительно, в речи «Против Попилия и матрон» Гай Гракх говорил: «В соответствии с этим принятым образцом, он был достоин погибнуть на злосчастном кресте» (eo exemplo instituto dignus fuit, qui malo cruce periret) 57. В схожих выражениях впоследствии Марк Туллий Цицерон указывал на возможность такого же наказания для Гая Верреса за внесудебную расправу над римским гражданином Публием Гавием: «я не должен опасаться того, что один лишь этот вот римский гражданин (Гай Веррес. – Т. М.) будет признан вами… достойным креста» (illa cruce dignus… iudicentur) 58. Кристофер Маккей высказывает, правда, предположение, что Гай Гракх, возможно, приводил в своей речи точку зрения самого Попилия, который вполне мог считать сторонников Тиберия Гракха мятежниками, заслуживающими креста [38. С. 135] 59. Однако, как следует из Цицерона, Гай Гракх произносил эту речь против «кровных родственников и родственников жены» (cogna-ti et adfines) Попилия Лената, которые «просили римский народ» (populum Romanum deprecata est) за обвиняемого 60. В соответствии с этим, Гай Гракх, говоря о «злосчаст- ном кресте» (malo cruce), скорее всего, имел в виду здесь именно то наказание, которого, в соответствии с «образцами, (полученными) от предков» (ta< tw~n progo>nwn) заслуживает Попилий 61, но которого он может избежать, добровольно удалившись в изгнание 62. Показательно, что о «злосчастном кресте» (malo cruce) Гай Гракх говорил и во «второй» (pos-teriore) из своих обвинительных речей против Попилия, в которых, в частности, убеждал римлян «сослепу не отвергнуть» того, чего они «страстно желали и добивались в течение этих лет» (cupide per hosce annos ad-petistis atque voluistis) 63. Казнь на «кресте» (cruce), или, как гласил закон, – на «зловещем дереве» (arbor infelix, ср. malo cruce в речи Гракха), в древнейший период истории Рима была обычным наказанием за «государственное преступление» (perduellionis), каковым считалось и убийство римского гражданина без суда 64 (см. об arbor infelix: [45. P. 160–161]). Заметим, что как раз в последнем, по мнению Гая, и состояла вина Публия Попилия Ле-ната, который был причастен к гибели Тиберия Гракха и по приказу которого многих приверженцев Тиберия Гракха либо «изгоняли без суда» (ejxekh>rutton ajkri>touv), либо, «схватив, умерщвляли» (sullamba>nontev ajpekti>nnusan) 65. Действительно, некто Гай Виллий (судя по имени – римский гражданин) был тогда либо зашит в мешок и брошен в море, подобно отцеубийцам, либо просто убит в тюрьме «при загадочных обстоятельствах» [38. P. 131–132] 66. В пользу того, что именно Гай Гракх в своем законе о «гражданской правоспособности» вновь восстановил в качестве исключительной меры наказания за убийство римских граждан без суда и умаление величества римского народа казнь на кресте, свидетельствует речь Цицерона «За Гая Рабирия» (63 г. до н. э.). Так, согласно Цицерону, Тит Ла-биен, требуя для сенатора Гая Рабирия смертной казни на кресте за соучастие в убийстве плебейского трибуна Аппулея Сатурнина, ссылался, в том числе, «на (закон) Гая Гракха и на свободу (римских) граждан» (G. Gracchi… horum libertatis) 67. При этом, Лабиен, однако, воскрешал для Гая Рабирия крайне архаичную – и, очевидно, непредусмотренную законом Гракха – процедуру суда «дуумвиров по государственным преступлениям» (duumviri perduellionis), в соответствии с которой смертный приговор выносился специально избранными ради этого должностными лицами, и лишь в случае апелляции осужденного к народу утверждался или не утверждался центуриатными комициями (cм. [36. P. 152]). Это и позволило Цицерону, обращаясь к народу, обвинить Лабиена в том, что он – вопреки закону Гая Гракха – хочет, чтобы «дуумвиры не только выносили судебное решение относительно римского гражданина без вашего приказа (injussu vestro), но осуждали римского гражданина на смерть, не заслушав дела (indicta causa)» 68. Если сопоставить это замечание Цицерона с теми сведениями о суде народного собрания, которые оратор дает в речи «О своем доме», легко увидеть, что Цицерон указывал, прежде всего, на следующее: предложение Лабиена противоречит закону Гая Гракха, по которому, в соответствии с обычаем, требовалось сначала заслушать «дело» (causa) обвиняемого в ходе «судебного разбирательства» (actio) перед народом. Здесь «магистрат должен был трижды выступить с обвинением» (magistratus ter accuset), представить «свидетелей» (testes), причем обвиняемому «делалось много уступок позволяющих умилостивить судей» 69. Действительно, традиция говорит именно о трех обвинительных речах Гая Гракха против Попилия Лената 70, из которых «речь против матрон» была произнесена, как нами уже отмечалось, в связи с выступлениями «множества родственников» (multitu-do propinquorum) Попилия, просивших народ за него (cм. выше, ср. также: [39. P. 184–185]). Соответственно, противопоставляя такой порядок судебного разбирательства суду дуумвиров Лабиена, Цицерон спустя шестьдесят лет мог обвинить самого Лабиена в «оскорблении свободы» (violare libertatem) римского народа, его «величества», и сослаться при этом на Гая Гракха: «Но если бы предлагаемый то- бой порядок судебного разбирательства (ista actio) действительно служил благу народа (popularis esset) или если бы в нем была хоть какая-то справедливость или законность, неужели Гай Гракх отказался бы тогда от него (eam reliquisset)»? 71 Далее, в связи с предложенным Лабиеном экстраординарным порядком судебного разбирательства, Цицерон саркастически замечает, что «видимо, смерть дяди» Лабиена, которого Лабиен никогда не видел и который был убит вместе с Аппулеем Сатурнином, стала для обвинителя Рабирия «большим горем» (graviorem dolorem), чем для «Гая Грак-ха – смерть его брата» (quam C. Graccho frat-ris) 72. Цицерон здесь, вероятно, намекал на ту самую речь Гая Гракха, в которой он, согласно Плутарху, агитировал за принятие своего закона «о гражданской правоспособности». Ведь именно тогда Гай Гракх, приравнивая убийство плебейского трибуна к государственному преступлению, с особенной горечью упрекал народ в том, что «на ваших глазах Тиберия… били дубьем и мертвого волочили с Капитолия через весь город» (dia< me>shv th~v po>lewv) 73. Таким образом, приведенные слова Цицерона, по-видимому, прямо свидетельствуют в пользу того, что Тит Ла-биен требовал для Гая Рабирия такого же наказания, какого Гай Гракх требовал для По-пилия Лената, но при этом предложенная Гракхом судебная процедура куда в большей степени соответствовала «свободе» римского народа 74. Это значит, что Попилию Ле-нату (так же, как и Гаю Рабирию), в случае если он до вынесения приговора добровольно не удалится в изгнание, должны были закутать голову, затем «подвесить» (suspende-re) его к кресту и засечь розгами насмерть 75. Смертный приговор, однако, по закону Грак-ха, выносили не дуумвиры, а непосредственно народное собрание (трибутные комиции), заслушав предварительно как обвинителей, так и защитников. При этом, как показывают фрагменты речей Гракха, высказаться могли даже женщины 76. Таким образом, закон Гая Гракха «о гражданской правоспособности» (de capite civis), точно так же, как и его закон «об отрешенных от должности», в первую очередь, развивал собственно римскую, плебейскую традицию. В соответствии с ней, право апелляции к народу воплощало в себе «свободу» (liber-tas) и «величество» (maiestas) плебса, которые гарантировались «священной и неприкосновенной» властью плебейских трибунов, и, следовательно, богами Юпитером, Церерой, Либером и Либерой 77 [18. С. 87; 36. P. 152–153]. Есть даже мнение, что в эпоху ранней Республики магистрат, лишивший гражданина права апелляции, обрекался в жертву богам – то есть подлежал точно такому же наказанию, что и магистрат, оскорбивший плебейского трибуна 78 [9. С. 288, 446]. Но если сама жестокость кары, установленной Гракхом за «умаление величества римского народа» лишь только соответствовала плебейской традиции, то последовательно проводимый Гракхом принцип верховенства трибутных комиций, напротив, выглядит ее развитием 79. Многие исследователи, вслед за К. В. Ничем и Т. Моммзеном, отождествляли закон Гая Гракха «о гражданской правоспособности» (de capite civis) с тем его законом, который Цицерон определяет как закон о том, «чтобы никто не был обойден в суде» (ne quis iudicio circumveniretur) 80 [16. С. 216; 44. S. 390, not. 20; 33. S. 480–481; 42. S. 1385; 32. P. 82, not. 73]. Действительно, в соответствии с приведенной у Цицерона статьей этого закона Гракха суду народа подлежал тот магистрат, который, «отправляя выборную должность, вступил или вступит в сговор или соглашение с целью добиться осуждения кого-либо публичным судом» (qui coiit, coie-rit, convenerit, quo quis iudicio publico condem-naretur) 81. Легко увидеть, что по своему точному смыслу эти положения очень подошли бы закону «о гражданской правоспособности», ведь по сути Гай Гракх обвинял Попи-лия Лената именно в сговоре с целью лишить своих противников жизни в обход законного судебного решения 82. В пользу сближения двух законов говорит и комментарий Цицерона, согласно которому, закон ne quis iudi-cio circumveniretur распространялся только на сенаторов, и был проведен Гаем Гракхом «ради плебса» (pro plebe) 83. С точки зрения Х. Ласта и Э. Габбы, напротив, этот закон Гракха никак не связан с его законом «о гражданской правоспособности», но имел своей целью борьбу с коррупцией в «государственном суде» (iudicium publicum) – суде по делам о вымогательствах римских провинциальных наместников. По мысли Х. Ласта, Гая Гракха подтолкнуло к этой мере скандальное оправдание сенаторскими судьями консуляра Мания Аквилия, «прославившегося» своими вымогательствами в провинции Азия после подавления восстания Аристоника в 129 г. до н. э. 84 Таким образом, закон ne quis iudicio circumveniretur оказывался прелюдией той реформы суда по делам о вымогательствах, которую Гай Гракх провел во время своего второго трибуната. При этом, однако, констатировалось, что закон был направлен не столько против взяточничества судей как такового, сколько вообще против всяких попыток судебного сговора [35. P. 70; 52. P. 420]. Нам данная точка зрения представляется весьма слабо аргументированной. Так, полемизируя с Х. Ластом, Дж. Майнес указывал, что в контексте речи Цицерона «За Клуен-ция» (где и цитируется закон Гракха ne quis iudicio circumveniretur) выражение iudicio circumvenire (букв. «обойти (кого-либо) судом») может означать только «посредством подкупа добиваться осуждения ответчика» 85. Следовательно, этот закон Гракха легче связать именно с его борьбой против произвола судебных комиссий, подобных комиссии Лената, чем с борьбой против коррупции в суде по делам о вымогательствах, который, наоборот, был известен своими оправдательными приговорами [41. P. 242]. Наконец, по мнению Урсулы Эвинс, закон ne quis iudicio circumveniretur объективно был направлен не столько против коррупции, сколько против произвола сенатских судебных комиссий, в пользу чего свидетельствует следующее: 1) По словам Цицерона, этот закон Гая Гракха позднее стал составной частью сул-ланского закона «об убийцах и отравителях» (de sicariis et veneficiis) 86, и в приводимой Цицероном статье речь идет, прежде всего, о «судебном убийстве», и «наказании тех, кто ответственен за вынесение противозаконного приговора по уголовному делу» [27. P. 96]; 2) Закон ne quis iudicio circumveniretur распространялся только на сенаторов, а потому не мог касаться взяточничества судей в суде по делам о вымогательствах, ведь в ходе своей судебной реформы Гай Гракх как раз исключил из его состава сенаторов [Ibid. P. 97, 102]; 3) Эта антисенаторская направленность сближает закон ne quis judicio circumvenire-tur с законом Гая Гракха «о гражданской правоспособности» так, что можно говорить о «единстве целей» двух законов, «дополняющих и подкрепляющих друг друга» [Ibid. P. 98–99]. Выводы Эвинс в настоящее время принимаются большинством исследователей [30. P. 85–86; 29. P. 116; 48. P. 121; 46. P. 163; 38. P. 310–311]. Однако в свете выявленных нами выше содержания и целей закона Грак-ха о «гражданской правоспособности» есть все основания утверждать, что закон ne quis iudicio circumveniretur не просто «дополняет и подкрепляет» его, но вообще составляет с ним один закон, который, скорее всего, назывался lex Sempronia ne quis iudicio circum-veniatur (crcumveniretur). В пользу того, что lex ne quis iudicio circum-veniretur – официальное наименование этого гракханского закона, свидетельствует тот же Цицерон. Так, рассматривая, по своему обыкновению, греческие реалии с сугубо римской точки зрения, оратор писал: «Сходным образом, говорят, Исократ сначала пренебрегал искусством речи и обычно сочинял речи для других (scribere aliis solitum orationes), чтобы те пользовались ими в суде, но когда из-за этого его самого стали привлекать к ответственности как преступившего закон и «обошедшего кого-то в суде» (quo quis iudicio circumvenire-tur), он оставил писать речи для других» 87. Иными словами, Цицерон, цитируя закон Гая Гракха, хочет сказать, что против знаменитого афинского оратора Исократа выдвигались обвинения, совершенно аналогичные тем, которые выдвигал против римских сенаторов Гай Гракх, проводя свой закон ne quis iudicio circumveniretur (ср.: [38. P. 282–283]). В чем же афиняне могли обвинять Исократа, чье преступление, согласно Цицерону, заключалось лишь в том, что он «сочинял речи для других, чтобы те пользовались ими в суде» (quibus in iudiciis uteren-tur)? Наши источники не дают однозначного ответа на этот вопрос, но позволяют предположить, что Цицерон имеет в виду обвинение в преступлении против государства. Действительно, согласно «Жизнеописанию десяти ораторов», Исократу впервые понадобилось ораторское «искусство» (te>cnav) тогда, когда «он был оклеветан доносчиком в народном суде» (enj toiv~ dikasthrio> iv), по-видимо-му, за то, что был учеником оратора Фераме-на, члена афинского олигархического «правительства тридцати» (403 г. до н. э.) 88. В самом деле, множественное число ta< dikasthr> ia указывает, что сикофанты обвиняли Исократа непосредственно перед судом гелиэи, и, следовательно, деятельность известного «сочинителя судебных речей» приравнивалась доносчиком к преступлению против государства 89. Юлий Поллукс в своем «Ономастико-не», ссылаясь на оратора Гиперида, современника Исократа, также относит выражение «злонамеренный сочинитель судебных речей» (dikog> rafov… kakopra>gmwn) к фразеологии, типичной для судебного разбирательства по обвинению «в государственных преступлениях» (tw~n dhmosi>wn ajdikhmat> wn) 90. Наконец, сам Исократ (как и Лисий) был склонен видеть в злонамеренных заказных «сочинениях» (suggram> mata) такого рода, прежде всего, угрозу для «граждан» (politwn~ ) в целом 91. Сопоставив эти данные с приведенным выше свидетельством Цицерона, можно прийти к выводу, что обвиняемому по закону Гая Гракха ne quis iudicio circumveniretur вменялось в вину именно преступление против государства. Если же вспомнить, что Публий Попилий Ленат в соответствии с законом Гая Гракха также обвинялся в «государственном преступлении» (perduellionis), то налицо серьезные основания для того, чтобы отождествить закон Гая Гракха ne quis iudicio circum-veniretur с его же законом «о гражданской правоспособности» (de capite civis). Действительно, глагол circumvenire (букв. «обходить»), как пришедший из военного лексикона, у большинства авторов республиканской эпохи в соответствии со своим изначальным значением «окружать» означает, в том числе, «брать верх над кем-либо, опираясь на превосходство в силе и опыте» (cр.: [45. S. 326]). Ведь и у Катона Старшего, и у Цезаря, и у Саллюстия circumvenire (обойти) врага может только войско или военный отряд, подавляющие противника своей численностью или физической мощью (multitudo, plures, strenuissimi etc.) 92. В соответствии с этим, и в политике, и в суде, «обойти» (circumvenire) своих противников может лишь тот, кто превосходит их могуществом и влиянием. Так, Секст Квинтилий Вар рассчитывал «обойти» (circumvenire) цезарианцев в Африке, опираясь на свой авторитет у солдат 93. В Галлии «первые лица» (principes) общины, обладая высшим авторитетом, не позволяли «могущественному» (potentiorem) «обходить и притеснять своих» (suos opprimi et circumveniri) 94. Свою неспособность противостоять «могущественным» имел в виду, как кажется, герой трагедии Гнея Невия, когда сетовал: «вижу я, что почти уже берет верх надо мной (собств. «обходит») несправедливость» (circumveni-re video ferme iniuria) 95. Публия Квинкция, подзащитного Цицерона, родственники надеялись «обойти» (circumveniri) в суде, опираясь на поддержку влиятельного магистрата – претора Гнея Долабеллы 96. Состоятельный римлянин Гай Фанний Херея, используя свои связи в суде, хотел «обойти» (circumvenire) актера-вольноотпущенника Квинта Росция и добиться его осуждения 97. По свидетельству Цицерона, намерение «обойти» (circumveniri) обвиняемого в суде могли приписать всякому, кто хоть в чем-то погрешает против «предоставленного законом» (lege concessum), например, сокращая вопреки обычаю свою обвинительную речь 98. В связи с этим, Гай Веррес, обвинявшийся провинциалами в вымогательствах, вполне мог жаловаться на то, что сицилийские общины «обходят и притесняют» (circumveniri et opprimi) его в суде, в первую очередь, из ненависти к «эдиктам и постановлениям» (decretis edictisque) римского наместника 99. Бывшего пропретора Азии Луция Валерия Флакка также обвиняли в том, что на основании его противозаконного эдикта в суде «были обойдены» (circum-ventos) именитейшие провинциалы 100. Луций Катилина негодовал, что «обойден» (circum-ventus) экс-магистратами во главе с консулом Цицероном, выдвигающим «ложные обвинения» (falsis criminibus) 101. По Саллюстию, римские граждане «были обойдены» (cir-cumveniamini) тиранической властью Луция Корнелия Суллы, заплатив за это собственной кровью (suimet sanguinis mercede) 102. Неизвестный автор «Письма к Цезарю о государственных делах» обвинял Гнея Помпея и «могущественных людей» (illi factiosi) в том, что они лишили римский плебс высшей власти, творят произвол в суде и «обходят невинных» (innocentis circumveniunt) 103. Наконец, Авла Клуенция Габита, согласно Цицерону, обвиняли не столько в даче взятки, сколько в том, что он деньгами способствовал тому, чтобы суд, приняв противозаконное решение, «обошел» (circumvenerit) и «осудил невинного» (innocentem condemnaret). Пострадавший, по мнению обвинителей Габита, был в первую очередь беззаконно «притеснен и обойден судом» (iudicio oppressum et circum-ventum) 104, а Габит виновен в том, что осужденный «обойден, поскольку (даны) деньги» (pecunia circumventus) 105. В свете вышесказанного, ссылка Цицерона, защищавшего Габита, на закон Гая Гракха ne quis iudicio circumveniretur («о том, чтобы никто не был обойден в суде»), как на касающийся не Габита, но исключительно сенаторов и экс-магистратов, однозначно указывает, что гракханский закон был направлен именно против их судебного произвола и злоупотреблений властью 106. В пользу того, что этот закон Гая Гракха касался тех, кто, подобно Попилию Ленату, лишал римских граждан права апелляции и таким образом умалял «величество римского народа», свидетельствует Саллюстий. Согласно нему, Гай Юлий Цезарь, возражая Дециму Силану, предложившему казнить арестованных катилинари-ев, ссылался на «закон Порция и другие законы» (lex Porcia aliaeque leges), которые не позволяют сенату и магистратам «обходить» невиновных (circumveniri innocentes) и, в том числе, своим решением обрекать римского гражданина на «смертную казнь» (supplicium summum) 107. Говоря о «законе Порция», Цезарь имел в виду один из законов Марка Порция Леки и Публия Порция Леки (198–194 гг. до н. э.), ужесточивших наказание за нарушение закона Валерия об апелляции к народу и являвшихся, по Цицерону, «началом самой справедливой свободы» (principium iustissi-mae libertatis) 108. По Цицерону же, закон Гая Гракха «о гражданской правоспособности» – прямое их продолжение 109, и, следовательно, Цезарь, упоминая здесь «другие законы», не позволявшие «обходить» невиновных (cir-cumveniri innocentes), должен был включать в их число и закон Гая Гракха, который логично определить как lex Sempronia ne quis iudi-cio circumveniretur («Закон Семпрония о том, чтобы никто не был обойден в суде»). Однако как в таком случае объяснить тот факт, что в своей речи «За Гая Рабирия» Цицерон называет этот закон Гая Гракха законом о том, «чтобы относительно гражданской правоспособности римских граждан не было судебного решения без вашего (т. е. народа) приказа» (ne de capite civium Romano-rum injussu vestro iudicaretur)? 110 Ведь «у одного закона не может быть двух названий» [38. P. 282]. Тем не менее внимательный анализ текста речи Цицерона, показывает, что оратор, по-видимому, приводит здесь не название закона Гракха, но лишь ключевое его положение, актуальное для Гая Рабирия, которому грозит смертная казнь. Ведь всюду в дошедших до нас фрагментах речи Цицерон, говоря о «гражданской правоспособности» (букв. «голове» – caput) или об уголовном преступлении (fraus capitalis), имеет в виду именно «гражданскую правоспособность» («голову») Гая Рабирия и уголовное преступление, в котором он обвиняется 111. В связи с этим логично предположить, что и закон Гая Гракха Цицерон цитирует только в той его части, в какой это необходимо для защиты «гражданской правоспособности» Ра-бирия. Действительно, Цицерон говорил: «Порциев закон избавил римских граждан от розог; этот сострадательный человек (Тит Ла-биен. – Т. М.) возвратил бичевание (flagella). Порциев закон вырвал свободу граждан из рук ликтора (libertatem civium lictori eripuit); Лабиен, сторонник народа, предал ее палачу (carnifici tradidit). Гай Гракх внес закон с тем, чтобы относительно гражданской правоспособности римских граждан (de capite civium Romanorum) не было судебного решения без вашего (т. е. – народа) приказа; этот же сторонник народа требует (coegit) , чтобы дуумвиры не только выносили без вашего приказа приговор о судьбе римского гражданина (Гая Рабирия. – Т. М.), но осуждали римского гражданина на смерть (civem Romanum capitis condemnari) , не заслушав дела» 112. Легко увидеть, что из всего закона Порция «о праве апелляции» (de provocatione) Цицерон приводит здесь лишь положение, запрещавшее наказывать римского гражданина розгами без приказа народа 113. Оно было особенно актуально для Гая Рабирия, которого, в случае принятия предложения Лабиена, должны были подвесить на кресте и засечь до смерти (см. выше). Надо думать, и из закона Гая Гракха Цицерон точно так же приводит здесь лишь одну единственную, актуальную для Рабирия статью, воспрещающую выносить судебные решения «относительно гражданской правоспособности римских граждан» в обход суда комиций. Понятно, что здесь имеется в виду, прежде всего, «гражданская правоспособность» Гая Раби-рия, которой угрожал «суд дуумвиров», возрождаемый Лабиеном вопреки закону Грак-ха. Очевидно, что эта цицероновская цитата из закона Гракха куда меньше подходит на роль названия гракханского закона, чем та, где он определяется как lex ne quis iudicio cir-cumveniretur. К тому же в последнем случае прямо сказано: «сам этот закон – «о том, чтобы никто не был обойден в суде, внес Гай Гракх» (hanc ipsam legem ‘ne quis iudicio cir-cumveniretur’ G Gracchus tulit) 114. Напротив, в речи «За Гая Рабирия» Цицерон ссылается, скорее всего, не на название, но на одно из ключевых положений закона Гракха: «Гай Гракх внес закон с тем, чтобы относительно гражданской правоспособности римских граждан не было судебного решения без вашего приказа» (G Gracchus legem tulit, ne de capite civium Romanorum iniussu vestro iudi-caretur) 115. Принимая во внимание приведенные выше слова Саллюстия о том, что закон Порция и «другие законы» (aliae leges), подтверждавшие право апелляции, прежде всего, препятствовали попыткам магистратов «обойти» невиновных (innocentes circum-veniri), приходим к выводу, что закон Гая Гракха о «гражданской правоспособности» вполне мог называться lex Sempronia ne quis iudicio circumveniretur. Итак, мы привели ряд новых аргументов против имеющейся у современных исследователей склонности видеть в законе Гая Гракха «о гражданской правоспособности» (de capite civis) и его же lex ne quis iudicio cir-cumveniretur два разных закона, хотя и близких, но все же отличных друг от друга (cр.: [27. P. 98–99; 38. P. 283, 310–311]). В соответствии с этим, очевидно, что первые законы Гая Гракха, проведенные сразу по вступлении в должность трибуна, с одной стороны, действительно, являются продолжением политической линии его старшего брата, утверждая принцип ответственности магистратов перед народом (трибутными ко-мициями). С другой стороны, и сами законы, и аргументы Гая в пользу их проведения не обнаруживают на себе явного влияния гре- ческой «теории народного суверенитета» и апеллируют к старинным традициям анти-патрицианской борьбы римского плебса. Материал поступил в редколлегию 03.11.2007