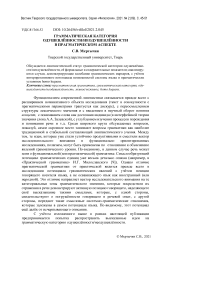Грамматическая категория одушевлённости/неодушевлённости в прагматическом аспекте
Автор: Мкртычян Светлана Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования по теории и истории языка
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
Обсуждается лингвистический статус грамматической категории одушевлённости/неодушевлённости, её формальные и содержательные показатели; анализируются случаи, демонстрирующие колебание грамматических маркеров, с учётом интерпретативного потенциала возможностей системы языка и прагматических установок homo loquens.
Прагматическая грамматика, грамматическая категория, одушевлённость/неодушевлённость, живое/неживое
Короткий адрес: https://sciup.org/146282299
IDR: 146282299 | УДК: 81?366.52 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.2.045
Текст научной статьи Грамматическая категория одушевлённости/неодушевлённости в прагматическом аспекте
Функционализм современной лингвистики связывается прежде всего с расширением номинативного объекта исследования (текст в совокупности с прагматическими параметрами трактуется как дискурс), с переосмыслением структуры лексического значения и с введением в научный оборот понятия концепт , с пониманием слова как достояния индивида (в интерфейсной теории значения слова А.А. Залевской), с углублением изучения процессов порождения и понимания речи и т.д. Среди широкого круга обсуждаемых вопросов, пожалуй, самое скромное место занимают вопросы грамматики как наиболее традиционной и стабильной составляющей лингвистического учения. Между тем, те идеи, которые уже стали устойчиво продуктивными и сместили вектор исследовательского внимания в функционально ориентированных исследованиях, полагаем, могут быть применены по отношению к объяснению явлений грамматического уровня. По-видимому, в данном случае речь может идти о функциональной (или прагматической) грамматике. Смыслообразующий потенциал грамматических единиц уже весьма детально описан (например, в «Практической грамматике» И.Г. Милославского [9]). Однако отличие прагматической грамматики от практической видится прежде всего в исследовании потенциала грамматических явлений с учётом позиции говорящего носителя языка, а не осваивающего язык как иностранный (или неродной). Это отличие направляет вектор исследовательского внимания на те категориальные зоны грамматического значения, которые посредством их отражения в речи демонстрируют активную позицию говорящего, наделяющего своё высказывание такими смыслами, которые, с одной стороны, свидетельствуют о погружённости говорящего в речевой опыт, с другой стороны, передают такие смысловые системно-грамматические отношения, которые заложены в самом потенциале языка. По-видимому, этот потенциал ещё далёк от исчерпывающего описания.
С учётом изложенного выше в рамках настоящей публикации предпринимается попытка распространить высказанные идеи на грамматическую категорию одушевлённости/неодушевлённости.
В качестве предварительного замечания необходим краткий экскурс в историю вопроса. Грамматические категории прямо или косвенно направлены на отражение определённых характеристик действительности. Специфика этого отражения укоренена в грамматическом строе языка.
В русском языке грамматическая категория одушевлённости/неодушевлённости является номинативной категорией существительного, которая связана с разделением объектов действительности на живые и неживые, и находит грамматический способ выражения посредством совпадения форм множественного числа винительного падежа с формами родительного падежа (для одушевлённых существительных) или именительного падежа (для неодушевлённых существительных). Степень выраженности категории одушевлённости/неодушевлённости в различных языка имеет свою специфику (см. об этом подробно в [4]): она может быть скрытой и нерегулярной, например, в английском и немецком языках; может переплетаться с категорией личности, и входить в оппозицию по признаку пола, например, в ряде нахско-дагестанских языков; может быть косвенной, соотноситься с оппозицией «личность — неличность» и проявляться в системе числительных и местоимений, например, в венгерском языке; может получать разветвлённую систему выражения, например, в славянских языках [8]. По отношению к системе русского языка грамматическая категория одушевлённости/неодушевлённости впервые детально описана А.А. Зализняком [5].
В индоевропеистике широкое распространение получила теория А. Мейе, который считал, что разделение на мужской и женский род является результатом расщепления древнего одушевлённого рода, а средний род – это отражение древнего неодушевлённого рода. Мнение об универсальной первичности двоичной классификации, предшествовавшей как роду, так и системам именных классов высказывалось целым рядом лингвистов (в их числе В. Вундт, Я. ван Гиннекен, Ф. Мюллер, А. Тромбетти и др.).
Согласно А.А. Шахматову в истории русского языка до XV века в употреблении родительного падежа вместо винительного в словах мужского рода «в языке явилось стремление яснее отличить форму объекта (дополнения) от формы субъекта (подлежащего). Сначала это коснулось мужского рода, и винительный падеж имен мужского рода одушевлённых стал заменяться родительным ( отьць любить сына )» [14: 22]. Е.И. Янович отмечает, что в общеславянскую эпоху слова, которые называли полноправных лиц, употреблялись как одушевлённые, а неполноправных – как неодушевлённые [15]. С XV века употребление одушевлённости распространялось на существительные, которые обозначали животных. В течение XVI – XVII веков категория одушевлённости охватила существительные женского рода множественного числа. Этот процесс ознаменовал завершение её формирования в русском языке.
Таким образом, к концу XVII в. грамматическая категория одушевлённости/неодушевлённости приобрела конститутивные признаки грамматической категории: в пределах одной несловоизменительной парадигмы оказались противопоставлены по одному признаку две словоформы, этот признак приобрёл особый грамматический способ выражения, а наличие данного рода противопоставления закрепилось и стало регулярным по отношению к классу имён существительных.
В современной русистике на явление грамматической одушевленности/неодушевленности представлено две точки зрения:
-
1) . Одушевленность/неодушевленность – это лексико-грамматический разряд (данную точку зрения поддерживают авторы Грамматики-80, А.Н. Тихонов, В.В. Бабайцева, Н.С. Валгина и др.);
-
2) . Одушевленность/неодушевленность – это классифицирующая (несловоизменительная) категория (такую позицию разделают Л.В. Щерба, П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Д. Чеснокова и др.).
Вторая позиция выглядит более убедительной, поскольку позволяет заложить фундамент содержательного и формального (!) аспектов категории одушевлённости/неодушевлённости как грамматической категории и, если вести речь о лингводидактике, последовательно используется в методике преподавания русского языка как иностранного.
Вместе с тем, полагаем, что любое слово – это «живая» субстанция, и этот признак можно распространить на любую грамматическую категорию. Именно этим объясняется тот неоспоримый факт, что в языке имеются значимые исключения, интерпретациях которых не вполне очевидна даже для носителей языка. В отношении анализируемой грамматической категории можно назвать несколько классов примеров, которые требуют функционального подхода (в противоположность системно-структурному) к их интерпретации. С этой целью весьма плодотворным представляется привлечение теории поля и прототипической теории категоризации, развивающей идеи А.В. Бондарко и С.Д. Кацнельсона [7]. Основная идея заключается в том, что в полевой организации языковых категорий отражен результат человеческого восприятия. В прототипе видится «лучший представитель (образец)» категории со всеми типичными признаками, вокруг которого группируются другие элементы категории по принципу близости к прототипу [16]. Важно отметить, что исследования отечественных лингвистов, в частности работы В.Г. Адмони, показали, что полевую структуру имеют не только лексические, функционально-семантические, лексико-грамматические, но и морфологические категории [1]. Так, в качестве идеальных представителей категории одушевлённости/неодушевлённости выступает подавляющее большинство существительных (в том случае, когда у слов, обозначающих живых существ, форма множественного числа винительного падежа совпадает с родительным, и отсутствие такого совпадения в падежной парадигме слов, называющих неживые объекты действительности). А.В. Бондарко различает универсальную смысловую основу грамматического значения и его интерпретационный компонент. При этом в качестве интерпретатора выступает не человек, не этнос, а сама языковая система и языковая форма.
Язык, опираясь на культуру, как бы сам решает, что одушевлять, а что нет. Действительно в разных культурах представления о границах между живым и неживым отличаются. Так, В.А. Плунгян отмечает, что, например, деревья «в славянских языках (где признак одушевленности играет большую роль) не входят в этот класс, а в алгонкинских языках – входят» [12: 153].
Вопрос о том, что считать живым/неживым, какие существительные признать одушевлёнными/неодушевлёнными и какими критериями при этом пользоваться, не снимается даже в рамках одного языка.
Так, А.Г. Нарушевич предлагает классификацию, состоящую из 6 групп: «1) мыслимый как бывший живым ( мертвец, покойник, усопший и др.); 2) мыслимый как будущий живым ( эмбрион, зародыш, плод ); 3) мысленно представляемый живым (русалка, леший, вампир, киборг и др.); 4) мыслимый как подобие живого ( кукла, пупс, валет, ферзь и др.); 5) мыслимый как совокупность живого ( народ, толпа, стая, стад о и др.); 6) мыслимый как часть живого (рука, нога, голова и др.)» [11].
Г. Гочев считает, что категория одушевленности-неодушевленности «…непосредственно связана с особенностями коммуникативного акта» [3]. Так, неодушевленные существительные называют предметы, не способные к коммуникации ( дерево, камень ), им противопоставлены одушевленные существительные, т. е. имеющие способность совершать коммуникативный акт ( мальчик ). Согласно данной классификации, выделяются следующие группы: одушевленные существительные, не обладающие способностью совершать коммуникативный акт, но наделенные такой воображаемой способностью ( марионетки, драконы ); одушевленные существительные, имевшие такую способность, утерявшие ее, но по-прежнему воспринимающиеся в ретроспективе как имеющие такую возможность ( покойник, мертвец ); по каким-либо причинам не реализующие свои коммуникативные способности ( человечество, студенчество ).
В русском языке можно выделить несколько групп существительных, имеющих неоднозначный статус.
Группа 1. Слова кукла, снеговик, матрёшка, марионетка и подобные.
Характерно, что в сознании носителей языка они называют неживые предметы, следовательно, эти существительные считаются неодушевлёнными, но с точки зрения грамматики, они принадлежат к классу одушевлённых. К этой же группе можно отнести названия карточных и шахматных фигур, которые грамматика тоже причисляет к одушевлённым ( валет, ферзь ). Вероятно, определяющим здесь является не сама характеристика действительности, а позиция говорящего, его фокус зрения. Куклы вовлечены в игровую (а также магическую) деятельность человека. Игровая деятельность создает условия для восприятия кукол как функционально живых предметов.
Группа 2. Совмещение признаков живого и неживого вызывает колебания грамматического показателя у слов мертвец, покойник, утопленник. Существует мнение, что под одушевленными в грамматике понимаются отождествляемые с человеком «активные» предметы, которым противопоставлены предметы «неактивные» и, следовательно, неодушевленные. В то же время признак «активность/неактивность» не вполне объясняет, почему слова мертвец, покойник относятся к одушевленным, а народ, толпа, стая - к неодушевленным существительным. По всей видимости, категория одушевленности/неодушевленности отражает обыденные представления о живом и неживом, которые не совпадают с научной картиной мира. Эти представления содержатся в фольклоре в историях о живых мертвецах и в похоронной обрядности, отражающей мифологические представления русского народа об особой форме «жизни» умершего человека (например, о его способности слышать). См. об этом подробно в [13].
Собирательные слова, обозначающие нерасчленённое множество объектов ( народ, стадо, группа и т.д.), осмысливается как единое целое – совокупность живых существ, причем эта совокупность не равна простой сумме ее составляющих. Здесь множество связывается с семой совокупности в специфическом взаимодействии, которая и формирует показатель неодушевлённости. В.Г. Гак соотносит рассматриваемые существительные с категорией квазиодушевленного объекта: «Между одушевленными и неодушевленными объектами находится промежуточная группа коллективных объектов, состоящих из одушевленных единиц. Слова, обозначающие такие объекты... можно условно назвать квазиодушевленными» [2].
Группа 3. Названия мифических существ ( русалка, домовой, леший и др.) составляют отдельную группу, одушевлённость которых особенных вопросов не вызывает.
Группа 4. Слова кальмар, устрица, мидия, омар по законам грамматики относятся к неодушевлённым (здесь винительный тоже совпадает с именительным). Правильным считается: Я вижу мидии, кальмары, устрицы . Наряду с этим у носителей языка наблюдаются колебания грамматического показателя. Как полагает В.А. Ицкович, этих морских обитателей изначально рассматривали в качестве продуктов питания (ср. современное слово морепродукты ), они «не встречаются в Центральной России в живом виде и стали известны сначала как экзотические блюда и лишь позднее – как живые существа» [6].
Группа 5. Слова вирус, бактерия, микроб , являясь неодушевлёнными, безусловно, имеют иные формы жизни, нежели человек и млекопитающие. В связи с этим выдвигаемый В.А. Ицкович критерий разграничения живого/неживого по способности к передвижению вряд ли убедителен: «...под живым понимается предмет, способный к самостоятельному передвижению» [6].
Группа 6. Слова эмбрион, плод, выкидыш, зародыш имеют грамматическую характеристику неодушевлённости. На то, что в юридическом контексте этот грамматический вопрос может оказаться значимым, обращают внимание А.В. Минасян и А.В. Арданова, которые подробно проанализировали историю развития отношения права к нерождённому человеку и сделали ряд небесспорных выводов [10].
Если обратиться к контекстам употребления, то обнаружится, что в научных текстах лексемы, имеющие терминологический статус ( вирус, эмбрион и др.) как правило, являются неодушевлёнными. Объяснение этому лежит в сугубо лингвистической плоскости – в элиминировании субъективности и эмоциональности в текстах научных жанров. Здесь мы снова сталкиваемся с тем, что грамматическая категория одушевлённости/неодушевлённости принципиально не может быть сводима к определённым значениям. Говорящий в том числе с помощью грамматических категорий наделяет смыслами сам выбор словоформ с позиции перспективы своего речевого опыта. В этом можно убедиться, обратившись и к последней группе слов.
Группа 7. Слова зайчик (солнечный и уменьшительное к заяц), спутник, дворник, посудомойка реализуют категорию одушевлённости/неодушевлённости исключительно в силу своей многозначности с опорой на контекст.
Как свидетельствует опыт преподавания русского языка студентам направления «Лингвистика» на факультете иностранных языков и международной коммуникации Тверского госуниверситета, обучаемые воспринимают грамматику родного языка как некую абстракцию, которая должна быть заучена, поскольку принципиально не может быть понята. Вероятно, такой взгляд является следствием содержания ЕГЭ по русскому языку, подготовка к которому зачастую сводится к зазубриванию правил и отдельных случаев словоупотребления. В результате в высшей школе мы наблюдаем студентов, лишённых как аналитических и креативных способностей в отношении родного языка, так и принципиального понимания того, что посредством языкового выбора, в том числе и грамматических форм, возможна передача тонких смысловых нюансировок, заложенных в потенциале языка, которые не всегда осознаются даже его носителями.
Когда для интерпретации языковых употреблений мы ставим в центр внимания homo loquens с его мотивами и интенциями, тезис о том, что грамматические категории отражают действительность, приобретает особое объяснительное значение.
Список литературы Грамматическая категория одушевлённости/неодушевлённости в прагматическом аспекте
- Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. М.: Наука, 1988. 238 с.
- Гак В.Г. Глагольная сочетаемость и ее отражение в словарях глагольного управления // Лексикология и лексикография / Под. ред. В.В. Морковкина. М.: Русский язык, 1972. С. 68.
- Гочев Г. Категория одушевленности-неодушевленности русских местоименных существительных. URL: http://www.russian.slavica.org/article641.
- Ельмслев Л. О категориях личности//неличности и одушевлённости/неодушевлённости // Принципы типологического анализа языков различного строя, М., 1972. С. 114–152.
- Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М.: Языки славянской культуры, 2002. 752 с.
- Ицкович В.А. Существительные одушевленные и неодушевленные в современном русском языке (норма и тенденция) // Вопросы языкознания. 1980, № 4. С. 84–96.
- Кацнельсон С.Д. Типология языка и языковое мышление. Л.: Наука, 1972. 231 с.
- Корбетт Г.Г. Одушевленность в русском и других славянских языках: пример расхождения между синтаксисом и семантикой // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 15. С. 388 – 406.
- Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка. М.: Наука, 1981. С. 54.
- Минасян А.В., Арданова А.В. К вопросу о категории одушевленности – неодушевленности у некоторых понятий //Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия «Общественные науки». 2010, №6. С. 124–128.
- Нарушевич А.Г. Функционально-семантическое поле одушевленности – неодушевленности. URL: http://www.egf.tsure.ru/egf_files/11_438.doc
- Плунгян В.А. Общая морфология: введение в проблематику. М.: УРСС, 2000. 384 с.
- Потебня А.А. Символы славянской мифологии. М.: Вече, 2018. 384 с.
- Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка.М.: Учпедгиз, 1957. 401 с.
- Янович Е.И. Историческая грамматика русского языка: учебник. 2-е изд. Минск: БГУ, 2011. 279 с.
- Rosch E.H. Human categorization // Advances in cross-cultural psychology. N.Y.: Academic Press, 1977. Vol. A. P. 1–49.