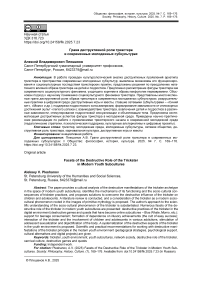Грани деструктивной роли трикстера в современных молодежных субкультурах
Автор: Плешанов А.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
В работе проведен культурологический анализ деструктивных проявлений архетипа трикстера в пространстве современных молодежных субкультур, выявлены механизмы его функционирования и социокультурные последствия трикстерских практик, предложены решения по преодолению негативного влияния образа трикстера на детей и подростков. Предложено рассмотрение фигуры трикстера как современного социокультурного феномена, уходящего корнями в образы мифологии первовремени. Обоснован подход к научному пониманию социокультурного феномена трикстера. Представлены многочисленные грани деструктивной роли образа трикстера в современных молодежных субкультурах: разрушительные практики в цифровой среде (деструктивные игры и квесты, ставшие сетевыми субкультурами – «Синий кит», «Момо» и др.); поддержка подросткового консьюмеризма; формирование зависимости от иллюзорных достижений (культ «легкого успеха»); взаимодействие трикстера, вовлечения детей и подростков в различные зависимости, стимулирование подростковой сексуализации и объективации тела. Предложена систематизация деструктивных аспектов фигуры трикстера в молодежной среде. Приведены научнопрактические рекомендации по работе с проявлениями трикстерского начала в современной молодежной среде (педагогические стратегии, психологическая поддержка, культурные альтернативы и цифровые проекты).
Трикстер, молодежная среда, молодежные субкультуры, сетевое общество, деструктивная роль трикстера, карнавальная культура, деструктивные игры и квесты
Короткий адрес: https://sciup.org/149148801
IDR: 149148801 | УДК: 316.723 | DOI: 10.24158/fik.2025.7.23
Текст научной статьи Грани деструктивной роли трикстера в современных молодежных субкультурах
Введение . Актуальность изучения феномена трикстера в контексте современных молодежных субкультур обусловлена фундаментальными трансформациями культурного ландшафта XXI в., в значительной мере затрагивающими социокультурное развитие ситуации в Российской Федерации. В эпоху постмодерна, характеризующуюся размыванием границ между высокой и массовой культурой, традицией и новацией, нормой и девиацией, архетипический образ трикстера приобретает особое значение как механизм деконструкции устоявшихся социокультурных паттернов. В данной связи представляется уместным обратиться к идеям М.М. Бахтина о том, что карнавальная культура с ее амбивалентностью и инверсией ценностей всегда выступала важным механизмом культурного обновления (Михаил Михайлович Бахтин: личность и наследие …, 2020: 202). Следует отметить, что именно трикстер становится центральной фигурой этого процесса в современности.
Расширение научных представлений о деструктивных аспектах трикстерства в молодежных субкультурах современности, равно как и о способах их преодоления, даст возможность проникнуть в глубинные основания культурных трансформаций и позволит выявить диалектику созидательного и разрушительного в динамике культурных систем.
Проблемное поле настоящей статьи фокусируется вокруг амбивалентной природы трикстера как социокультурного феномена, соединяющего в себе креативный потенциал культурной трансгрессии с безусловно деструктивными – и при этом чрезвычайно трудными для преодоления – практиками разрушения нормативных оснований социальной жизни. В современных молодежных субкультурах, основательно укоренившихся в Российской Федерации, находящаяся в сложнейшей ситуации борьбы за традиционную социокультурную идентичность фигура трикстера становится не просто архетипическим образом, но и поведенческой моделью, реализуемой в конкретных практиках и формах самовыражения.
Проблема научного исследования в предметной области первоочередным образом заключается в выявлении той границы, за которой трикстерская игра с культурными кодами перестает быть механизмом обновления и превращается в разрушительную силу, угрожающую культурной преемственности и психологической целостности личности, а также в определении действенных инструментов и методов борьбы с деструктивным влиянием образа трикстера на подрастающее поколение с учетом многогранных аспектов социокультурной феноменологии.
Целью настоящей публикации выступило переосмысление и расширение научных представлений в современной теории и истории искусства и культуры о деструктивной роли архетипа трикстера, отражающейся в различных молодежных субкультурах, типичных для Российской Федерации, а также разработка комплекса идей по преодолению деструктивного влияния трикстера на детей и подростков.
Литературный обзор . С содержательно-сущностных позиций фигуру трикстера необходимо рассматривать как универсальный архетипический образ, присутствующий в мифологических системах практически всех известных культур – от североамериканских индейцев до африканских и полинезийских народов, от скандинавского Локи до Баба-Яги в славянской мифологии. Обращаясь к идеям Е.М. Мелетинского, можно констатировать, что трикстер во многом воплощает в себе свойства существа первовремени, еще не подчиненного социальным нормам и природным трансформациям (Мелетинский, 2005).
В социокультурном измерении трикстер выполняет функцию медиатора между различными бинарными оппозициями, в частности, между сакральным и профанным, природой и культурой, порядком и хаосом. М.П. Кэролл приводит мнение К. Леви-Стросса, согласно которому трикстер – это «мифологический шут», через фигуру которого культура осмысляет собственные границы и возможности их преодоления (Carroll, 1981: 304, 307). Следует особо подчеркнуть ли-минальный характер трикстера, который позволяет помещать его в пространство между и посреди социальных структур (Ellis, 1993: 55).
В современном контексте трикстер трансформируется из мифологического персонажа в субъекта, играющего социокультурную роль, реализуемую в конкретных практиках и поведенческих моделях; в известной мере он становится своеобразным культурным «героем нашего времени», воплощающим в себе принцип трансгрессии и игрового переосмысления культурных норм, отражая их драматические иногда трансформации.
Феномен трикстера в истории и современной науке исследуется на основе комплексного, междисциплинарного подхода, который предполагает интеграцию ключевых подходов таких наук, как культурная антропология, психоанализ, литературоведение, культурология, социология.
Фундаментальный вклад в осмысление архетипа трикстера внес К.Г. Юнг. В своей работе «О психологии образа трикстера» (Jung, 2016) он определил трикстер как архетипический образ коллективного бессознательного, воплощающий «тень» современной ему культуры. Следует отметить, что связь между трикстером как культурным персонажем и юнгианским архетипом обнаруживается, прежде всего, в диалектике сознательного и бессознательного, культурного и природ- ного. По определению К.Г. Юнга, трикстер воплощает неосознаваемые, вытесненные аспекты психики, которые, несмотря на их репрессированный характер, сохраняют энергетический потенциал и способность к трансформации (Jung, 2016). В культурологической перспективе юнгианский трикстер может быть лучшим образом интерпретирован как символическое выражение культурной амбивалентности, механизм коллективной рефлексии над границами нормативного и девиантного.
В данной связи необходимо подчеркнуть, что в современных молодежных субкультурах приходится наблюдать реактуализацию трикстерского архетипа в форме сознательного принятия такой роли как способа самоидентификации и социального позиционирования. Психологический потенциал «тени» трансформируется в культурную практику, в то время как бессознательное стремление к трансгрессии обретает исключительно символические формы самовыражения.
В монографии «Трикстер: исследование мифологии американских индейцев», П. Радин представил первое комплексное антропологическое исследование фигуры трикстера в фольклоре коренных народов Северной Америки, выявив универсальные черты и функции этого архетипа (Radin, 2015).
В исследованиях Х.У. Гумбрехта представлен комплексный анализ «культуры присутствия» в постмодернистском обществе (Gumbrecht, 2004).
В российской научной традиции значимый вклад в исследование трикстера внесли такие ученые, как Е.М. Мелетинский (Мелетинский, 2005), В.Я. Пропп (Пропп, 1998), О.М. Фрейденберг (Фрейденберг, 2021). Ими осуществлено рассмотрение трикстера в контексте исторической поэтики и структурной антропологии.
В монографическом труде Д.А. Гаврилова представлен комплексный анализ трикстерских образов в различных культурных традициях (Гаврилов, 2009).
Среди работ российских ученых в рассматриваемой предметной области значительный исследовательский интерес вызывают труды Т.Б. Щепанской о семиотике молодежных субкультур (Щепанская, 1993), идеи М.Ю. Лотмана о карнавальной культуре и ее трансформациях (Юрий Михайлович Лотман …, 2009).
В гуманитарных науках сложилось несколько подходов к раскрытию сущности социокультурного феномена трикстера, включая мифологический (К. Леви-Стросс, Е. Мелетинский, В. Пропп), психоаналитический (К.Г. Юнг, М.-Л. фон Франц), социологический (В. Тэрнер, М. Дуглас), семиотический (Ю. Лотман, Б. Успенский) и постмодернистский (Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр). Предлагаются как исключительно оригинальные, так и взаимодополняющие интерпретации, и для полноценного раскрытия сущности трикстера, в том числе в контексте уточнения граней его деструктивной роли в молодежных субкультурах, важно синтезировать лучшие аспекты представленных научных подходов.
На наш взгляд, целесообразно понимать трикстер как полифункциональный социокультурный феномен, отражающий единство архетипического образа, поведенческой модели и символической функции, реализующий принцип амбивалентной трансгрессии культурных норм через практики карнавализации, деконструкции и инверсии ценностных оппозиций с целью создания пространства культурного эксперимента, в котором потенциал деструкции служит механизмом культурного обновления, при этом требует значительного сдерживания, чтобы предотвратить полноценную реализацию его всеобще-разрушающего потенциала.
Результаты и обсуждение . Проведенный обзор теоретических подходов к осмыслению феномена трикстера позволяет прийти к выводу о фундаментальной амбивалентности данного социокультурного феномена, соединяющего в себе созидательное и деструктивное начала в неразрывном единстве.
Необходимо сказать, что в пространстве современных молодежных субкультур фигура трикстера иллюстрирует механизм культурной рефлексии и инновации, однако при этом сохраняет значительный деструктивный потенциал, угрожающий как психологической целостности личности, так и культурной преемственности в обществе. В этой связи следует отметить сетевые (изначально) практики, которые трансформировались в деструктивные субкультуры, характерные для российской молодежи (с учетом трансграничного характера сетизации сложно найти социум, в который бы данные практики не проникли, хотя и с разной степенью глубины и прочности, они представлены различными сущностями, в том числе адаптированными под ментальность молодежи в конкретном обществе). Таковым в России выступает феномен деструктивных онлайн-игр типа «Синий кит» («Разбуди меня в 4:20»), «Момо». Соответствующие сетевые «игры», представляющие собой полноценные молодежные субкультуры, опасные для общества (Баева, 2019; Черникова, 2023), являются квинтэссенцией трикстерского начала в его предельно деструктивном проявлении. Эти игры-сообщества функционируют по принципу инициационной практики, перевернутой и искаженной по сравнению с традиционными культурными формами данного процесса. «Синий кит» и подобные «игры смерти» предполагают постепенное погружение участника в серию все более травматичных испытаний, кульминацией которых становится самоубийство (Чагин, 2020).
Структурно-семиотический анализ данных практик позволяет выявить ключевые элементы трикстерского нарратива. Иерархия ценностей представлена преимущественно трансформацией инстинкта самосохранения в стремление к самоуничтожению через последовательную десакрализацию жизни, в то время как лиминальность выражена погружением участника в пограничное состояние между жизнью и смертью, реальностью и виртуальностью, ритуальность представлена созданием квазирелигиозного дискурса с собственной символикой (образ синего кита, числовые коды, специфическая иконография). Трансгрессия находит выражение в последовательном разрушении социальных табу и переходе от символического их нарушения к фактическому. Манипулятивная коммуникация выражается в использовании трикстерской амбивалентности в языке для размывания границ между игрой и реальностью. Следует согласиться, что деструктивные манипулятивные практики такого рода используют архаические механизмы инициации, но лишают их культуросозидающего потенциала, направляя энергию трансгрессии не на включение индивида в новый социальный статус, а на его исключение из социума через смерть1.
Другая примечательная деструктивная грань фигуры трикстера в современной молодежной среде – превращение субъекта в агента потребительства (консьюмеризма). В данной связи исключительно важно подчеркнуть, что архетип трикстера в современной культуре потребления функционирует через механизмы символического обмена, что приводит к радикальной трансформации классической иерархии ценностей. Соответствующий механизм реализуется через:
-
– инверсию экзистенциальной формулы бытия и обладания, когда обладание становится самоцелью человеческого существования и отменяет все ценности бытия (вплоть до суицидов детей и подростков, которые не смогли получить вожделенную вещь). В эпоху избыточного консьюмеризма вещи не столько потребляются, сколько маркируют социальную идентичность (Paterson, 2023), и трикстер предлагает ребенку множество симулякров идентичности через вещи, разрушительно влияя на формирование личности и ее устойчивость;
-
– формирование искусственной дефицитарности – трикстерский дискурс консьюмеризма создает постоянное ощущение недостаточности и неполноты через механизмы искусственного устаревания товаров, культивирование статусного потребления и фетишизацию брендов (Roth, 2017);
-
– десакрализацию смысловых доминант – в фигуре трикстера происходит подмена долгосрочных ценностных ориентаций сиюминутными гедонистическими импульсами, что приводит к «разжижению» ценностной сферы растущей, становящейся личности;
-
– нарциссическую трансформацию – консьюмеристские практики формируют нарциссиче-ский тип личности, для которого характерны поверхностность эмоциональных связей, гиперрефлексивность без действия и бегство от свободы в мир потребления (Cisek et al., 2014; Hill, 2011; Murray, 2020).
Деструктивная роль трикстера в актуализации подросткового консьюмеризма первоочередным образом проявляется в том, что он предлагает подростку псевдоинициацию через потребление вместо подлинной – через преодоление внутренних и внешних препятствий.
Следующая грань разрушительного влияния архетипа трикстера на молодежь выражается во взаимодействии субъектов с культом «легкого успеха». Архетип трикстера в современной медиасреде активно проявляется в феномене «инфоцыганства» и культе «легкого успеха», предлагающих альтернативную карьерную траекторию, противопоставленную традиционным путям социального роста. Представленные идеи соблазнительны для детей и подростков, не полностью сформировавшихся и весьма восприимчивых личностей, практически не способных преобразовать мощные информационные потоки, пропустив их через призму критического сознания. Проблематика усугубляется применением медийно-психологических практик действительно радикального воздействия на сознание в «инфоцыганстве» и др. (Кулева, Мельник, 2023; Лаптева, Фирсова, 2023).
Роль архетипа трикстера в формировании зависимости от иллюзорных достижений заключается, помимо прочего, в активации следующих механизмов:
-
– создание нарратива о быстром и легком достижении благосостояния в противовес традиционному этосу труда и постепенному накоплению компетенций, обеспечивающих успех индивида в будущем;
-
– размывание границ между фактическим знанием и мнением, между экспертом и дилетантом (кризис эпистемических авторитетов в сетевом обществе);
-
– инструментализация синдрома «страха упустить возможность» (Gupta, Sharma, 2021) – трикстерский нарратив апеллирует к архаическим пластам психики, формируя тревогу отставания и исключения;
-
– тотальная маркетизация, «коммодификация» личности – превращение персонального опыта и идентичности в товар, которому молодые люди фактически не знают никакой цены.
В столь привлекательной для многих современных детей и подростков фигуре современного блогера-миллионера (Lorenz, 2023) воплощается архетипический образ трикстера как «похитителя удачи», получающего награду не за труд, а за нарушение конвенциональных правил.
Архетип трикстера играет значимую роль в механизмах вовлечения в различные формы зависимости, реализуя свою амбивалентную природу через трансформацию границы между удовольствием и саморазрушением. Так, субкультура наркотического потребления представляет собой инверсированную инициацию, где вместо интеграции в общество происходит эксклюзия из него, а псевдотрансценденция замещает подлинную трансформацию личности; трикстерская фигура дилера и наркокультура тесно срастаются за счет механизмов расширения сознания через его редукцию, игры с трансгрессией (наркотик как «запретный плод»), заманчивый для неокрепшего ума опыт инициации (наркотик как ключ к тайному знанию), а также посредством переопределения идентичности молодых людей через принадлежность к маргинальному сообществу.
Аналогичные или схожие механизмы наблюдаются в активации трикстером цели вовлечения детей и подростков в прочие зависимости, включая игроманию. В рамках разрушительных практик чрезмерной подростковой сексуализации и объективации тела деструктивная игра трикстера реализуется через отчуждение физической оболочки от личности, а также посредством превращения интимности в товар, десакрализации эротического опыта и вместе с этим инверсии субъект-объектных отношений (фетишизации).
Проведенный комплексный анализ деструктивных проявлений архетипа трикстера в современной молодежной среде, в том числе в молодежных субкультурах в Российской Федерации, позволяет систематизировать соответствующие разрушительные влияния по следующим основаниям:
-
1. По сфере воздействия (экзистенциальная, социальная, когнитивная, аксиологическая и телесная деструкция).
-
2. По механизмам воздействия (симуляция и гиперреальность, подмена реальности, кар-навализация серьезного, трансгрессивность, фрагментация личности и инверсия ценностей).
-
3. По социокультурным последствиям (формирование культуры нарциссизма, инфантили-зация – продление психологического моратория, разрыв культурной преемственности, коммодификация идентичности, бегство от социальной действительности в виртуальные миры, создание симулятивных идентичностей, замещение реальных достижений виртуальными).
Научно-практические рекомендации для применения в работе с деструктивными проявлениями трикстерского начала в современном молодежной среде Можно констатировать, что многогранные аспекты проявления деструктивной роли трикстера в современной молодежной среде в Российской Федерации требуют не только систематизации и глубинного научного осмысления, но также и срочной реализации мер комплексного реагирования – от оперативных до стратегических – с учетом потенциального и уже материализовавшегося вреда, нанесенного обществу. Однако прежде чем приступить к описанию некоторых ключевых, на наш взгляд, рекомендаций, хотелось бы предупредить о недопустимости радикализации соответствующих мер реагирования. Описанные грани деструктивного в фигуре трикстера не означают отсутствия положительных характеристик и тем более не должны рассматриваться в контексте восприятия трикстера как сиюминутного явления, на который можно с высокой ожидаемой результативностью воздействовать запретительными мерами. Как сущность, коренящаяся в глубинных традициях, фактически в человеческой генетике и культурном коде всех народов мира, образ трикстера будет и далее проявлять себя, а попытки декларировать его «уничтожение» лишь усугубят деструктивные трансформации, подкрепляемые латентностью их протекания с убежденностью части социума в том, что с соответствующими явлениями «покончено». Важно грамотно реагировать на новые вызовы, понимая, что в них также кроются и многочисленные возможности социокультурного развития; необходимо «уживаться» и сосуществовать с трикстером, отчетливо понимая, что культура существует в постоянном напряжении между стремлением к стабильности и потребностью в обновлении, и именно трикстер становится тем культурным механизмом, который обеспечивает динамическое равновесие этих противоположных тенденций.
С учетом изложенного нами сформулированы ключевые, на наш взгляд, научно-практические рекомендации для применения в работе с деструктивными проявлениями трикстерского начала в современном молодежной среде:
-
1. Активная реализация комплекса педагогических стратегий и программ, в том числе в сфере творческой самореализации, вовлечения детей и подростков в сервисное обучение (социально значимую деятельность, где они в конструктивном ключе получат возможность проявить инициативу и нестандартное мышление), а также в направлении медиации конфликтов в школе и восстановительной практики.
-
2. Развитие системы психологической поддержки детей и подростков, в том числе через группу проигрывания архетипов, наставническую деятельность «положительных бунтарей» (людей, успешно трансформировавших свой негативный потенциал в созидательную деятельность), реализацию программ укрепления критического мышления молодежи.
-
3. Предложение культурных альтернатив, создание и популяризация образов «трикстеров-созидателей». Может быть предложено развитие этического хакерства, переосмысление традиционных героев в педагогике и социокультурной пропаганде (представление классических культурных героев через призму их трикстерских качеств – например, Одиссей, Робин Гуд, Остап Бендер как амбивалентные фигуры). В качестве «противовеса» трикстеру-разрушителю детям и подросткам могут и должны быть предложены такие фигуры, как «трикстер-создатель», «мудрец-шут», «воин-защитник» и «творец-визионер».
-
4. Внедрение цифровых и медийных решений, создание альтернативного цифрового контента и позитивных нарративов, использование онлайн-пространств, где подростки могут конструктивно нарушать правила и экспериментировать в безопасной среде (хакатоны социальных проблем, марафоны креативных решений), а также, например, содействие движению «этичных пранкеров» (Sabrina, Pranesh, 2022) – переориентация пранк-культуры с унижения на положительный социальный эффект.
В дополнение к предложенным мерам важно учитывать, что деструктивные проявления трикстерства усугубляются в контексте фактического существования социокультурной среды, и для минимизации проблем и наносимого ущерба, безусловно, исключительную важность приобретают институциональные изменения, продвигаемые в рамках позитивных трансформаций образовательной среды, проактивных программ реинтеграции трудных подростков; обеспечение деятельности молодежных советов с реальными полномочиями.
На наш взгляд, главное в работе с трикстерским началом в контексте предотвращения деструктивного влияния на молодежь и/или минимизации его негативных последствий не подавление этого начала, а перенаправление деструктивной энергии в русло созидания, позволяющее молодым людям сохранить свою индивидуальность и потребность в трансгрессии, самореализуясь социально приемлемыми и личностно развивающими способами.
Заключение . Таким образом, существует острая необходимость глубокого анализа проявлений трикстерства в различных молодежных субкультурах, выявления границы между продуктивной культурной трансгрессией и деструктивным нигилизмом, а также разработки методологии различения этих феноменов в культурологической перспективе, вместе с действенными рекомендациями по комплексному преодолению деструктивного влияния трикстера на представителей подрастающего поколения.
Деструктивные аспекты архетипа трикстера в современной молодежной среде представляют собой системное явление, затрагивающее различные уровни личностной и социальной организации. В отличие от традиционного культурного трикстера, выполнявшего роль «контролируемого хаоса» в рамках символических и ритуальных практик, современный трикстер зачастую (хотя, следует отметить, далеко не всегда) лишен культуротворческих функций и реализует преимущественно деструктивный потенциал.
Проведенный анализ убедительно показывает, что в условиях информационного общества и цифровой среды деструктивные проявления трикстерского начала усиливаются благодаря стиранию границ между реальным и виртуальным, ослаблению социального контроля и фрагментации культурного пространства. Трикстер из маргинальной фигуры становится центральным агентом социализации, формируя альтернативную систему ценностей и поведенческих моделей – однако эти модели и ценности могут быть общественно неприемлемыми и попросту опасными.
Именно развернутое и максимально полное понимание амбивалентной природы трикстера предоставит широкие возможности не только для осуществления профилактики деструктивных проявлений, но и для направления трансгрессивной энергии молодежи в созидательное русло через формирование альтернативных нарративов и практик, сохраняющих креативный потенциал трикстерского начала, однако также включающих его в контекст позитивной социализации и личностного роста.