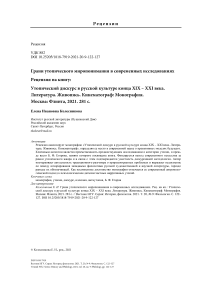Грани утопического миропонимания в современных исследованиях. Рецензия на книгу: Утопический дискурс в русской культуре конца ХIХ – ХХI века. Литература. Живопись. Кинематограф: Монография. Москва: Флинта, 2021. 281 с.
Автор: Елена Ивановна Колесникова
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Рецензии
Статья в выпуске: 9 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Рецензия анализирует монографию «Утопический дискурс в русской культуре конца XIX – XXI века. Литература. Живопись. Кинематограф», определяя ее место в современной науке о проективных моделях будущего. Ключевым аспектом является преемственность предшествующим исследованиям о категории утопии, и прежде всего Б. Ф. Егорова, памяти которого посвящена книга. Фиксируется выход современного искусства за рамки утопического жанра и в связи с этим подтверждается уместность дискурсивной методологии. Автор подчеркивает актуальность традиционного разговора о природоохранных проблемах и выражает недоумение по поводу игнорирования западными филологами русской художественной и научной литературы, гораздо раньше их обозначившей. Как несомненное достоинство монографии отмечается ее современный антропологический подход к психологическим деталям частных нарративных утопий.
Монография, утопия, дискурс, иллюзия, антиутопия, Б. Ф. Егоров
Короткий адрес: https://sciup.org/147234691
IDR: 147234691 | УДК: 882 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-9-122-127
Текст научной статьи Грани утопического миропонимания в современных исследованиях. Рецензия на книгу: Утопический дискурс в русской культуре конца ХIХ – ХХI века. Литература. Живопись. Кинематограф: Монография. Москва: Флинта, 2021. 281 с.
Kolesnikova E. I. Utopian View of the World: Modern Studies. Review: Utopian Discourse in Russian Culture of the Late 19th – 21st Century. Literature. Painting. Cinema. Monograph. Moscow, Flinta Publ., 2021, 281 p. (in Russ.). Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2021, vol. 20, no. 9: Philology, pp. 122–127. (in Russ.) DOI 10.25205/ 1818-7919-2021-20-9-122-127
В издательстве «Флинта» вышла в свет монография коллектива авторов «Утопический дискурс в русской культуре конца ХIХ – ХХI века. Литература. Живопись. Кинематограф», научный редактор – проф. Н. В. Ковтун. Такое широкое и многогранное явление, как утопия, породившее целые философские направления, литературные жанры и стили, логические парадоксы и лингвистические фигуры, совершенно логично рассматривается на платформе научной серии «Универсалии культуры», которая на сегодняшний день включает десять выпусков.
Появление книги, авторы которой в основном филологи, весьма актуально, поскольку утопии до сих пор анализируются прежде всего с философской точки зрения и реже с литературоведческой. Монография демонстрирует разнообразие подходов к анализу утопических моделей в хронологических рамках от эпохи модерна до постмодерна, что позволило показать отличие современных утопий от классических образцов, а также определить их место в истории становления самого жанра.
Учитывая многолетние наработки по заявленной проблематике, монография не отвлекается на теоретические обоснования понятия утопии и дискуссии о его дефинициях. Но, уйдя от теоретических споров, книга широкими мазками дает экскурс содержательной эволюции этого явления, оговаривает употребление понятия «дискурс» во избежание утратившего изначальное наполнение понятия «жанр» и недостаточного для охвата материала понятия «стиль». «“Утопический дискурс” понимается как способ высказывания об особой, вероятностно-ценностной реальности, которую конструирует утопическое мышление» (с. 12). Взятое за методологическую основу подвижное понятие дискурсивности дало возможность рас- смотреть в его концептном поле материалы, связанные с утопией не столь очевидно, но через определенные объяснительные модели, блестяще представившие ее современное понимание. Это и чеховская топика, и плакатная живопись, и мемуарные нарративы.
В отдельных конкретных случаях авторы книги видят необходимость разграничения термина «утопия», как это сделано, например, с понятием «идиллия», что актуально на современном этапе («Идиллическое vs утопическое в художественной прозе М. А. Тарковского», Н. Вальянов). Пространство утопического дискурса относительно антиутопии и дистопии обозначено в таких главах, как «Пространство антиутопии в новелле С. Кржижановского “Бог умер”» (А. Мансков), «Образы Москвы в утопическом и антиутопическом дискурсе (на материале романа “Текст” Д. Глуховского» (М. Кун), «От утопии к антиутопии: поэтика повести Я. Ларри “Необыкновенные приключения Карика и Вали”» (А. Куляпин). Подобные уточнения вполне уместны, поскольку терминологические прения по поводу понятий «дистопия» и «антиутопия» всё ещё продолжаются. Часть исследователей предпочитает использовать термины синонимично (Б. Ланин, А. Ф. Поломошнов), другие четко их разграничивают (А. Баласапоус, А. А. Дыдров, В. А. Чаликова), третья группа учёных вовсе отказывается от использования термина «антиутопия» (Г. Клейс, А. Олдридж, У. Вагар). Продуктивны расширительные рассуждения об утопии в главе, посвященной Г. Газданову. В частности справедливо напоминается, что в «термине “утопия” изначально заложена коннотация двое-мирия» (c. 198). Этот посыл вызывает соответствующий горизонт ожидания, связанный с неизбежным для мотива двоемирия в искусстве ХХ–ХХI вв. ироническим изводом. Тем более что этот подтекст ощутим в общей концепции монографии, проступающей даже на уровне ее тонкого и остроумного оформления. Но он остается не развит в указанной главе: автор не увидел иронии ни в образе Клэр, ни в финальных сценах романа. Рассмотренные главы демонстрируют, насколько неразделимы в художественных реалиях ХХ–ХХI вв. утопия и ее «разоблачения». Как отметил английский исследователь Чэд Уолш в книге «От утопии к кошмару» («From Utopia to Nightmare», 1962), если в XIX в. и на рубеже веков анти-утопические и дистопические мотивы лишь обрамляли утопическое повествование, то сейчас дистопия и антиутопия стали «доминирующим типом»: лишь «небольшой процент воображаемого мира – это утопии, а остальное – ужасы» [Walsh, 1962, p. 14].
Книга подтверждает единство научного пространства: созданная в основном сибиряками и уральцами, она прочно вписана в общероссийскую, прежде всего петербургскую, культурную традицию. Посвященная памяти Б. Ф. Егорова, монография своей содержательной направленностью продолжает жизнетворческие и научные особенности его авторского стиля: глубокие исследовательские поиски в сочетании с кропотливой, а порой откровенно рутинной филологической работой (например, составлением сборников). Междисциплинарный инструментарий книги, широкий диапазон материала в сочетании с конкретностью предмета исследования, приверженностью к биографическому факту и документу – это тоже метод работы Бориса Федоровича. Не говоря уже о щедрой дружеской помощи окружающим, что, по его собственному определению утопии, и было достижением «мечты об идеальной жизни в любых масштабах и объемах» [Егоров, 2007, c. 6]. Этот аспект подкрепляется составом авторов рассматриваемой работы – от маститых профессоров до юных студентов-магистрантов, – что говорит о преемственности поколений и наличии серьезной научной школы.
Творческими контактами с Б. Ф. Егоровым и другими петербургскими учеными тесно связана исследовательская биография научного редактора монографии, в прошлом выпускницы аспирантуры Пушкинского Дома, а ныне филолога «первого эшелона» России, Н. В. Ковтун, много лет разрабатывающей проблемы традиционалистской утопии. Во вступительной статье исследовательница подчеркивает преемственность настоящего проекта предшествующему ему труду «Русский проект исправления мира…», научным руководителем которого выступил Б. Ф. Егоров (c. 13).
Ожидаемым от земляков В. Астафьева стал разговор об экопрозе в главе Т. Садыриной «Антипасторальные мотивы русской экологической прозы (на материале произведений
В. Астафьева)». Природоохранные мотивы затрагиваются также в главах Н. Ковтун, В. Степановой «Китежская легенда в современной русской прозе: символика и контексты», Н. Вальянова «Идиллическое vs утопическое в художественной прозе М. Тарковского». Актуальность вновь поднятых традиционных проблем природопользования обусловлена еще и необходимостью популяризации темы в западном пространстве. Немаловажную роль играет вопрос научного приоритета. Ставшее актуальным в Европе и США направление экокритики берет отсчет от 1970-х гг., игнорируя российские наработки, ведущиеся начиная с изучения «протоэкологических текстов 1930–1950-х гг. (М. Пришвин, К. Паустовский, Л. Леонов)» (с. 48), не говоря уже о работах солидных научных центров по изучению творчества В. Распутина и В. Астафьева.
Даже некоторые российские исследователи отдают первенство в этом вопросе зарубежному литературоведению: «Экокритический подход, по сути выросший на методологических принципах натурфилософского подхода в изучении природы, <…> апробирован преимущественно в зарубежном литературоведении (Германии, Финляндии, Великобритании); в отечественной науке данная методология считается новаторской» [Богач, 2017, c. 24]. Созданная в 1992 г. в США Ассоциация по изучению литературы и окружающей среды (The Association for the Study of Literature and Environment) считается результатом работы таких критиков и литературоведов, как Лео Маркс, Черил Глотфелти, Скотт Слович и Лоуренс Бьюэлл. Ни один российский писатель или исследователь в этой когорте не значится. Хотя круг проблем, стоящий за западным понятием «экокритика», вряд ли покажется новаторским для российского литературоведа. Например, согласно англоязычному словарю «A Dictionary of Cultural and Critical Theory» экокритика (environmental criticism) подразумевает «изучение литературы о природе с междисциплинарной точки зрения. Это литературоведческий анализ текстов, содержащих разного рода экологические проблемы… анализ способов и приемов, с помощью которых проблемы природы представляются в том или ином произведении» [Barbera, 2010].
Справедливости ради надо сказать, что и отечественные исследователи часто обходят вниманием творчество зарубежных писателей-натурфилософов. К примеру, в России было проигнорировано творчество Нобелевского лауреата 1980 г. Ж. М. Г. Леклезио, одной из основных тем которого является противостояние природы и цивилизации. Иначе говоря, налицо научный параллелизм в изучении одной и той же проблемы. Для разрешения сложившейся ситуации обращение в солидном научном издании к данному вопросу с привлечением зарубежного произведения (глава А. Григоровской «Integrated man Айн Рэнд в контексте утопических проектов России XIX–XX веков») может послужить шагом к сближению научных изысканий различных школ.
Глава Т. Заиндиновой «“Счастливая Москва” А. Платонова: финал романа в утопической перспективе» могла бы ярко прозвучать в этом контексте. Писатель ставил природу в жесткую систему научных законов: «…конструкция природы такова, что она не любит, когда ее обыгрывают… <…> Природа держится замкнуто, она способна работать лишь так на так, даже с надбавкой в свою пользу, а техника напрягается сделать наоборот» [Платонов, 1989, с. 15]. Но из-за неучтенности всего комплекса текстов, относящихся к обозначенному исследователем замыслу, например, процитированного выше претекста романа – «О первой социалистической трагедии», или его изводов: двух вариантов повести «Московская скрипка», рассказа «Любовь к родине или путешествие воробья», а также имеющего идейные и сюжетные переклички со всеми названными текстами рассказа «Григорий Хромов (Великий человек)», разговор о финале звучит неточно.
Но само обращение к роману «Счастливая Москва» для исследования утопических идей А. Платонова является новаторским. Как правило, утопические / антиутопические идеи Платонова исследуются на материале романа «Чевенгур», повестей «Котлован», «Песчаная учительница», «Джан». Жизнестроительные идеи неоднократно рассматривались в статьях писателя о мелиорации, рассказах «Такыр», «Родина электричества», «О потухшей лампочке
Ильича». Отдельную широко исследованную линию представляют его фантастические произведения «Маркун», «Лунная бомба» и др.
Даже на неполном комплексе текстов и используя материалы лишь «раннего платонове-дения» (в монографии за опору взяты в основном исследования из сборника 1999 г. «Страна философов Андрея Платонова…»), автор главы подошел к верному утверждению о том, что любая платоновская утопия оканчивалась трагической неразрешимостью не социального толка, а онтологического. Также убедительно подтверждены ранние наблюдения ученых о смене вектора с «дальнего человека» на «ближнего», открытости финала романа, сделаны интересные наблюдения над «фаустианскими» чертами в характере героев. С учетом актуальных наблюдений платоноведов открытый финал произведений Платонова можно было бы дополнить мотивом «вечного возвращения», где основной сюжетный узел обновляется, наращивается новыми смыслами, но на следующем витке возвращается к истокам (см. об этом: [Малыгина, 2005; 2018]).
Само рассмотрение произведения Платонова в заданном контексте намечает перспективный исследовательский вектор, в котором было бы интересно рассмотреть такие произведения, как неоконченные повести «Умственный хутор», «Македонский офицер», «Технический роман», очерки «Об идиотизме деревенской жизни», «Бедняцкие хроники» и др.
Несомненным достоинством монографии является отклик на современный антропологический разворот, повлекший за собой психологизацию. Так, в главах, посвященных топике А. Чехова, роману Е. Водолазкина «Авиатор», рефлексируется проблема отчужденности человека в мире, в центре внимания оказывается не социум, что характерно для утопического жанра, а отдельно взятая личность.
Столь же личностны главы, в которых рассматриваются повествования об искаженном существовании героев в условиях противоестественного для них уклада. Этот методологический поворот оказывается также созвучным принципу Б. Ф. Егорова, который мастерски сочетал анализ художественных текстов с изучением жизнестроительства в реальных биографиях и нарративах, когда «содержанием утопии становится сам акт человеческой жизни» (c. 254). В монографии два таких исследования, построенных на нарративах о «скверне житейской» / утраченном рае (Дурылин) и «мужской власти» / женском воздаянии (Окуневская), демонстрирующих разные научные подходы.
Первое – «Утраченная Россия как утопия в прозе и мемуарах С. Н. Дурылина» – построено на основе анализа ностальгического нарратива «внутреннего эмигранта, уходящего от жестокостей современности в инобытие повестей и рассказов» (c. 113) за счет «поэтики памяти». Автором главы рассмотрен механизм создания дурылинского нарратива за счет конструирования «эмоционального языкового кодирования и стратегии языковой генерализации» (c. 128). Исследователь выделяет «несколько ярких образов – опорных координат, тех моментов-точек, в которых сосредоточивается концептуальный смысл и на которых заостряется читательское внимание (c. 114)… Это в первую очередь образы прихода-храма, отчего дома, прекрасного сада и др. Этот «вещный» мир прошлого автор убедительно возводит до «сущностных для русской культуры понятий, идей» (c. 128).
В главе, посвященной советской актрисе Татьяне Окуневской, анализируется феминный тип утопии / дистопии. Проективным шагом к освобождению здесь является автобиографический нарратив: проговорив все случившееся и вымышленное в пространстве литературной свободы на грани художественной условности-«автовымысла» (определение С. Дубровски [Doubrovsky, 1977]), обрисовав своих обидчиков и недоброжелателей, актриса оказывается хозяйкой своей биографии. Изящным ходом было бы здесь опереться на работу Б. Ф. Егорова «Обман в русской культуре» (2012) и порассуждать в русле его дефиниций о природе вымысла Окуневской. Есть ли это обман, игра, двусмысленность, банальный оговор своих близких или же иллюзия свершившейся справедливости?
Борис Федорович Егоров, задавший научный и эмоциональный модус монографии, органично предстает в завершающем интервью, иллюстрируя принцип эстетизации жизненного опыта. Его глубокий по смыслу и легкий по форме рассказ о себе стал удачным завершением книги, не претендующей на конечные итоги, но задающей новые перспективы в исследовании утопии.
Walsh Ch. From Utopia to Nightmare. London, Bles, 1962, 191 p.
Список литературы Грани утопического миропонимания в современных исследованиях. Рецензия на книгу: Утопический дискурс в русской культуре конца ХIХ – ХХI века. Литература. Живопись. Кинематограф: Монография. Москва: Флинта, 2021. 281 с.
- Богач Д. А. Проблемы понимания образа природы в литературоведческой науке // Вестник Челяб. гос. ун-та. Филологические науки. 2017. № 6 (402). С. 221–229.
- Егоров Б. Ф. Российские утопии: Исторический путеводитель. СПб.: Искусство, 2007. 416 с.
- Малыгина Н. М. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М.: ТЕИС, 2005. 335 c.
- Малыгина Н. М. Андрей Платонов и литературная Москва: А. К. Воронский, А. М. Горький, Б. А. Пильняк, Б. Л. Пастернак, Артем Веселый, С. Ф. Буданцев, В. С. Гроссман. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. 592 с.
- Платонов А. О первой социалистической трагедии // Литературное обозрение. 1989. № 9. С. 3–21.
- Barbera J. R. Environmental criticism. In: A Dictionary of Cultural and Critical Theory. Ed. by M. Payne. Singapore, Blackwell Publishing Ltd., 2010, pp. 205–209.
- Doubrovsky S. Fils. Paris, Éditions Galilée, 1977, 469 p.
- Walsh Ch. From Utopia to Nightmare. London, Bles, 1962, 191 p.