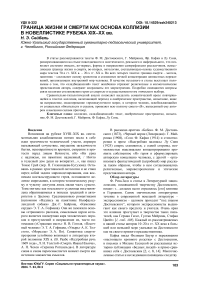Граница жизни и смерти как основа коллизии в новеллистике рубежа XIX-ХХ вв
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются тексты Ф. М. Достоевского, Г. Майринка, Фр. Кафки и Лу Синя, разворачивающиеся на стыке повседневного и мистического, реального и инфернального, что позволяет системно описать, во-первых, формы и направления саморефлексии рассказчиков, осмысляющих границу жизни и смерти, во-вторых, онтологию, составляющую основу художественного мира текстов 70-х гг. XIX в. - 20-х гг. ХХ в. Во всех четырех текстах граница смерти - могила, памятник - составляет основу хронотопа и становится почвой концентрации ценностных переживаний, организующих внутренний мир человека. В качестве исходного в статье выступает положение о том, что «кладбищенский» текст неизбежно отражает религиозные и космогонические представления автора, содержит координаты его миростроения. Подробно освещаются вопросы связи коллизии столкновения героя со смертью и осуществляемого им этического выбора.Сравнительно-типологический анализ позволяет выделить семантический ореол повторяющейся в текстах коллизии, включающий переход в онейрическое пространство, испытание, шанс на исправление, моделирование «промежуточного мира», в котором человек, освобождающийся от социальных обязательств и страхов, проявляет всю полноту своего «Я», вынесенный ему автором и высшими силами приговор.
Коллизия, «кладбищенский» текст, онейрическое пространство, испытание, ф. м. достоевский, г. майринк, ф. кафка, лу синь
Короткий адрес: https://sciup.org/147243240
IDR: 147243240 | УДК: 8-322 | DOI: 10.14529/ssh240213
Текст научной статьи Граница жизни и смерти как основа коллизии в новеллистике рубежа XIX-ХХ вв
Возникшая на рубеже XVIII–XIX вв. сентиментальная кладбищенская поэзия несла в себе идеи трагичности человеческой участи, априори вызывающей сочувствие, ощущение загадочности бытия, невозвратимости времени, смирения и кротости перед лицом Вечности, ибо «Ни урна с надписью, ни памятник надменный, / Ничто в телесный дом души не возвратит…», как писал Томас Грей (пер. П. Голенищева-Кутузова). Оставаясь в рамках христианской онтологии и не ставя перед собой задачи миромоделирования, она воспевала ностальгирующего героя, осознавшего величие мироздания, в котором человеческому разуму и чувству доступна лишь малая часть сущего. Тема могилы как последнего судилища восстановлена обратившимися в поисках традиций и авторитетов к Зрелому Средневековью романтиками (вспомним «Надпись на памятнике Ньюфаундлендской собаки» Дж.-Г. Байрона, «Каменное сердце» Э. Т. А. Гофмана). Они же заложили основы «страшного» рассказа, смысловым ядром которого является посмертная кара человеческих пороков и преступлений и исправление их, часто потомками («Страшная месть» Н. В. Гоголя, «Песочный человек» Э. Т. А. Гофмана, «Упырь» А. К. Толстого, «Морелла» Э. А. По). Семантика смерти-прозрения устойчиво возникает в литературе второй половины XIX в. (В. Раабе «Надгробная речь 1609 года», Л. Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича», А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда»). В литературе снова и снова переосмысляется момент смерти как источник множества смыслов.
В рассказах-притчах «Бобок» Ф. М. Достоевского (1873), «Черный ворон (Лихорадка)» Г. Май-ринка (1908), «Сон» Ф. Кафки (1914) и стихотворении в прозе «Надгробная надпись» Лу Синя (1925) смерть становится, с одной стороны, возможностью максимально концентрированно проявить собственное «Я» героя и сформулировать авторскую концепцию человека, с другой – организовать фантастический (загробный) мир рассказа таким образом, чтобы в нем согласовывались религиозные, мировоззренческие и этические представления автора.
Обзор литературы
Ф. Риза-Задэ в статье в Литературной энциклопедии, посвященной творчеству Достоевского, пишет: «…сильнее всего отразилось [его] влияние в Германии. Самое значительное литературное течение в современной немецкой литературе – экспрессионизм – целиком проходит “под знаком Достоевского”, которого экспрессионисты выдвигают как своего предтечу и учителя. Очень ярко это влияние проступает в творчестве таких писателей, как Герман Гессе, Густав Мейринк, Стефан Цвейг» [ 1, стб. 408 ]. Каждый из рассматриваемых в нашей статье авторов 10–20-х гг. ХХ века в большей или меньшей мере указывал на Достоевского как на своего прямого предшественника.
Кафка писал Фелиции Бауэр о переживании «настоящего кровного родства» с Достоевским, в письмах к Милене Есенской он рассказывал историю публикации «Бедных людей» и прямо сравнивал себя с Достоевским [2, с. 8, 14]. Многочисленные статьи и исследования посвящены сходству отдельных мотивов у Достоевского и Кафки, трансформации образов русского писателя в кафкианских притчах, близости библейских аллюзий того и другого и т. д. На значимость традиции Достоевского для Кафки указывает, например, А. А. Гугнин [3, с. 261]. «Их художественные миры, - пишет О. Н. Турышева, - непосредственно связаны друг с другом, и связь эта обеспечивается читательской активностью более поздних художников: Кафка … не просто был хорошо знаком с сочинениями Достоевского, но и прямо опирался на его образы и идеи, о чем свидетельствуют вовсе не однократные и достаточно прозрачные аллюзии на слово русского романиста» [4, с. 12].
«Член множества тайных орденов, искушенный в различных магических практиках и традиционной йоге» [5, с. 25] Г. Майринк многократно обращался к «русской теме» в своих текстах. Русские герои его романов «Вальпургиева ночь», «Зеленый лик», «Ангел западного окна» цитируют Кропоткина, Достоевского, Бакунина, оказываются то в центре, то на периферии повествования: «Непонятные “русские” … ассоциировались с секретами, загадкой» [6, с. 21]. Его внимание к Достоевскому редко становится объектом специального исследования. Исключение - типология героев и обстоятельств в романах Достоевского и Майринка, выстроенная в статье В. В. Алпатова В. Т. Аль-Гелани [7]. Однако редкий исследователь обходится без указания на влияние Достоевского на экспрессионизм вообще и Майринка, в частности.
Внимание к русской литературе Лу Синя -достаточно освоенный литературоведением аспект творчества основоположника современной китайской литературы. Он переводил - опираясь на «вторичные» переводы из немецкого и японского, часто не доверяя своему знанию русского языка - Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, Л. Н. Андреева, В. М. Гаршина. В 1918 году вышел самый известный его рассказ «Записки сумасшедшего», написанный под непосредственным влиянием Гоголя, а с 1924 по 1926 годы создавался цикл стихотворений в прозе в духе И. С. Тургенева «Дикие травы». В 1908 году Лу Синь выпустил большую статью о нравственном авторитете русской литературы и представил своим соотечественникам таких авторов, как Гоголь, Пушкин, Лермонтов. В «Предисловии к “Бедным людям”» Лу Синь назвал Достоевского великим исследователем человеческой души, но и обвинил его в том, что русский классик ведет по отношению к героям и читателям жестокий допрос, пытаясь под спудами зла отыскать истинно добрую сущность.
Таким образом, представляя сопоставление текстов Ф. М. Достоевского, Ф. Кафки, Г. Май-ринка и Лу Синя, мы можем говорить не только о типологических, но и контактных связях творчества писателей.
Методы исследования
Объектом сравнительного анализа в статье является коллизия. Она составляет «.пограничную ситуацию - на грани внешнего и внутреннего, <…> противоречие, служащее источником развертывания сюжета» [8, с. 97]. Важнейшее место коллизии определяется ее связью с «нарушением равновесия», обеспечивающим необходимость последующего конфликта и завершения события.
Г. Гегель, описавший сущностные основы строения сюжета, выделил три составляющие его ступени: ситуация, коллизия и конфликт, где второе - это «.исходный пункт, .. и переход к действию в собственном смысле этого слова» [9, с. 208]. Он писал: «В основе коллизии лежит нарушение, которое не может сохраняться в качестве нарушения, а должно быть устранено. … Коллизия еще не есть действие, а содержит в себе лишь начатки и предпосылки действия» [9, с. 213]. Однако дифференциация коллизии и конфликта по-прежнему составляет дискуссионный вопрос. Так, В. В. Кожинов, определяя коллизию как «источник и стимул действия», практически идентифицирует ее с конфликтом: «Художественная коллизия - это столкновение и противоречие между целостными человеческими индивидуальностями» [10, стб. 657]. М. Н. Эпштейн уточняет: «…иногда эти термины трактуются как синонимы» [11, с. 165]. А. Г. Коваленко, напротив, стремясь к дифференциации коллизии и конфликта, вводит понятие антиномии как именно нравственно-этического, мировоззренческого столкновения в равной степени значимого как для организации действия в эпосе и драме, так и для формирования психологической ситуации в лирике.
Рассматривая границу жизни и смерти как основу коллизии в исследуемых текстах, мы говорим об антиномической ситуации экзистенциального противоречия, ставящего героя в ситуацию само-рефлексии и необходимости выбора.
Результаты и дискуссия
Каждый из рассматриваемых рассказов соединяет в себе фантасмагорическую картину «загробного» мира, отражающую базовые религиозные, этические и мировоззренческие представления автора, содержащую элементы социальной сатиры, связанные с теми земными пороками, от которых не может отказаться грешный человек, и саморефлексию, реализуемую в преображении героя или рассказчика.
Все четыре текста мотивируют «посвящение» героя в кладбищенскую мистику и разговоры мертвых его переходом в онейрическое пространство.
Герой рассказа Ф. М. Достоевского «Бобок (Записки одного лица)» (1873) писатель-неудачник, прослывший сумасшедшим, подобно Н. В. Гоголю, отсылок к которому во вступительной части рассказа немало, и, конечно же, сумасшедшим не являющийся уже потому, что вступление рас- сказа – своего рода манифест, определяющий круг задач литературы, от выполнения которых отрекаются безответственные творцы: «Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают» [12, с. 42]. Встреча со смертью для него – исцеление («Со мной что-то странное происходит… Надо развлечься. Ходил развлечься, попал на похороны» [12, с. 43]). Голоса покойников он начинает слышать после того, как заснул, сидя на надгробном камне, хотя однозначно отнести все увиденное к сновидениям мешает ощущение героя, что он «очнулся». У комментаторов рассказа можно найти самые разные трактования от сведения всего последующего к пьяному полубреду до предположения, что герой сам пересек границу жизни и смерти и поэтому стал посвящен в разговоры, ведущиеся под могильными плитами.
Г. Майринк персонажа, прошедшего через встречу с жизнью-в-смерти, рисует в новеллах «Черный ворон (Лихорадка)» (1908) и «Мои муки и радости в загробной жизни. Передано “Эйнхорн-Верлаг” посредством спиритических стуков» (1913). Первая – лирическая притча, вторая – остросатирическая зарисовка. К сомнамбулическому блужданию героя «Черного ворона» подвигает болезнь, впечатление от кроваво-красного заката и встреча с паясничающим шутником, пораженным смертью в разгар шутки. Знамение неба (облака, сложившиеся в фигуру черного ворона) предостерегает его от ночной прогулки на кладбище, но притягательность картины заката оказывается сильнее благоразумия. Порожденный ок-культически ориентированным сознанием автора герой, отправляясь в блуждание (брожение – putrefaction – одна из важнейших химических операций на пути превращения металлов в золото – метафизическая смерть ради последующего воскрешения в лучшей и благородной форме), вступает на путь смерти и перерождения. Его предшествующая жизнь – и есть сон («разочаровался…, порешил никогда больше не вставать с постели» [13, с. 405]), и лишь «воспоминание об одном сне» [13, с. 406] выводит его из состояния духовной апатии и заставляет встретиться со своими страхами, желаниями и прозрениями.
Кафка не показывает момент перехода из реальности в сновидение. Он обозначает онейризм происходящего в названии новеллы («Сон») и все последующее описывает бесстрастным языком притчи. Странное восхищение героя, видящего собственную смерть, прерывает границы сна: «Восхищенный этой картиной, он проснулся» [14, с. 552]. Сложная интонационная игра, организующая текст новеллы и не дающая понятных оценочных ориентиров, провоцирует многочисленных интерпретаторов на диаметрально противоположные трактовки. С одной стороны, новелла, написанная одновременно с романом «Процесс», может трактоваться как его часть и нести в себе смыслы прозрения героя от радостной встречи со смертью-просветлением. С другой – она может быть прямым обвинением в тщеславии человеку, покоренному эстетическим совершенством картины собственной смерти.
Лу Синь, в отличие от других, свой сон проживает «здесь и сейчас»: «Мне снится, будто я стою перед могильной плитой и читаю вырезанные на ней слова» [15, с. 335]. Здесь нет границ засыпания и пробуждения, здесь сон – единственная реальность, подчиняясь законам которой герой не имеет другого выхода, кроме как честно решить все загадки странной надгробной надписи.
Так, уже мотивация перехода границы жизни и смерти роднит все четыре текста и дает возможность наглядно проявиться их особенностям.
Описывая Царство мертвых, античный поэт Лукиан писал: «Все равно суда никому не миновать». Каждый из рассматриваемых авторов создает свою гармонию инобытия. Как пишет социолог и «танатолог» Роберт Герц в книге «Смерть и правая рука»: «Точно так же, как тело не сразу относят к месту “последнего упокоения”, душа не отправляется к своему финальному месту назначения немедленно после смерти. Сперва ее ждут некие испытания, в течение которых она пребывает на земле поблизости от тела, блуждая по лесу или навещая места, где обитала при жизни: только по завершении этого периода, во время вторых похорон и благодаря особой церемонии, она войдет в край мертвых. По крайней мере, это самая простая форма верования» [16, с. 57].
В описании загробного мира каждый из авторов опирается на свои религиозные, мировоззренческие и этические постулаты.
Ф. М. Достоевский дает человеку «последнее милосердие» – шанс на осмысление и покаяние. Он создает довольно подробную картину перехода из мира живых в мир мертвых, «почти микрокосм» [17, с. 162]: его умершие получают три–шесть месяцев сознания, в которые они, по их собственному выражению, «…умерли, а между тем говорим; как будто движемся, а между тем и не говорим, и не движемся» [12, с. 50]. Рассказ – «впечатляющее и пронзительное напоминание писателя современникам, полагающим, что никакой жизни после смерти не существует, – о том, что и за гробом есть жизнь, но она полностью зависит от того, во что себя превратил человек при своем земном существовании» [18, с. 81]. «Чистилище» Достоевского полно запахов (адского зловония, источаемого грешниками), звуков («началась такая катавасия» [12, с. 48]), выстроено с опорой на цифровую символику (три разряда могил). Исследователи обнаруживают в нарисованной Достоевским картине и оккультные практики, и народное гадание на бобах, и обряды призывания бесов, и систему народных примет. Здесь базовые ритуалы христианства приобретают гротескно уродливые формы (исповедь, превращенная в развлекательный аттракцион). Негативный финал для нераскаявшихся душ – Бобок – пустота, бессмысленность, утрата сознания.
В картине кладбища Г. Майринка принципиально важна цветовая символика: «…червонная кровоточащая рана на небосклоне», «иссиня-черные птицы», «лунное сияние … по мраморным плитам», «гребень белой, крашенной стены» [13, с. 407]. Цвет в алхимии прямо связан со стадией перерождения, например, «…алхимические операции в греческой античности систематизируются в алгоритм: nigredo – albedo – citrino – rubedo (черный цвет – белый цвет – желтый цвет – красный цвет)» [19, с. 375]. Средневековье описывало Великое делание (Magnum opus) – достижение просветлённого сознания, слияния духа и материи – как переход от putrefaction (Творения в черном) к albedo (Творения в белом) и к rubedo (Творению в алом).
Умершие Майринка делятся на грешников и праведников исключительно по жажде жизни, силе духовного пламени, неутолимости стремления к познанию: «Уж не вообразил ли ты, что, совершая те или иные деяния, можно себя обелить» [13, с. 410]. Описывая границу жизни и смерти, Майринк рисует два пути. Те, кто рожден исполненным волей и духом, сопротивляются даже смерти, на пути страсти, их жизнь – «парадоксальное самосожжение». Только им даровано, минуя первую ступень Творения, оказаться под покровительством «одной из тех гигантских огненных птиц, которые с сотворения мира гордо парят в недосягаемых безднах космоса» [13, с. 411]. Их минует смерть в обиходном смысле, они перерождаются, соединяясь с белым вороном. Обыватели же обречены на стремительную и непредсказуемую смерть: «Там, под мраморной плитой, покоился тот, кто ещё сегодня утром мирно здравствовал в кругу своего многочисленного семейства» [13, с. 408]. Они оказываются под крылом черного ворона, высиживающего их сердца, чтобы через отталкивающее, смрадное и темное начать путь преображения.
Кафка рисует мир саморазворачивающихся картин. Здесь предметы живут сами по себе: «Поскольку дорожка под его отрывающимися от нее ногами понеслась дальше, он пошатнулся и упал прямо перед могильным холмом на колени» [14, с. 551]. Здесь граница живых и мертвых явственно ощутима и не нарушается понапрасну («земляной холм, на который он не хотел наступать» [14, с. 551]). Кладбище – место соединения и смешения стихий (камень, земля, вода, воздух), в результате чего возникает не хаос, а мир строгого порядка («…едва только появился К., они…», «…тотчас же из кустов вышел третий»). Здесь у человека нет времени на осмысление и итоги – все осуществляется внечеловеческой волей мистического регламента: «…просить его отказаться от этой затеи больше не было времени» [14, с. 552], – человек же безоговорочно и даже радостно подчиняется, ведь «…для него апокалипсис уже наступил» [20, с. 696].
Старое кладбище в стихотворении в прозе Лу Синя – место соединения времен. В его старости – потенция к уничтожению всего нового и к утрате надежды на будущее. Встреча с гниющим трупом (прошлым) – аналог истории Сатурна, пожирающего детей, парализующего волю к жизни героя, воплощающего настоящее. Участь мертвого – быть наставлением и источником «вкуса» (знаний о жизни) для живых, у него нет своего лица, он не знает «ни радости, ни печали» [15, с. 335]. И лишь встреча с избранником пробуждает в нем остатки жизни («поднялся и сел: губы его оставались неподвижными, но он произнес» [15, с. 335]). Если для героя Кафки «немалое веселье» развевающихся среди дальних могил знамен недостижимо, он – изгой, аутсайдер, то герою Лу Синя обещана грядущая радость «громких песен и буйного жара» [15, с. 335]. Лирический герой – избранник, допущенный к тайному знанию оборотной стороны надгробного памятника.
Во всех четырех случаях встреча прошлого и будущего несет в себе потенцию открытия и даже перерождения.
Описание мира загробного часто выявляет пороки мира земного: «Ежели ты уже вдоволь посмеялся над делами земными, отправляться к нам: здесь можно найти еще больше поводов для смеха», – писал Лукиан. Все четыре текста содержат критические элементы, связанные с порочностью современников, греховностью человека, ничтожностью его стремлений перед лицом Вечности.
Так, Андрей Белый называл рассказ Ф. М. Достоевского «Бобок» «ужасным» и пропитанным «совершеннейшим цинизмом» [21, с. 407–408]. Достаточно прозрачная структура текста во многом подчинена задаче показать пороки человека, упорствующего в греховности, неспособного отказаться от земных страстей. Данные крупным планом покойники – воплощение безнравственности. Генерал Первоедов – картежник, тайный советник Тарасевич – растратчик-казнокрад, Авдотья Игнатьевна – распутница, чиновник Лебезятников – подхалим-карьерист, барон Клиневич – циник, мошенник и самозванец. Единственным «светлым пятном» на этом фоне кажется лавочник, он семьянин, честно заработавший себе на дорогие похороны, но бесконечно, даже после смерти, ведущий расчеты. В кульминации рассказа «…многие разом проснулись» [12, с. 48], и крупный план сменяется общим – перемешиваются голоса и страсти, оказывается, что распущенность и мелочное любопытство в равной мере присущи всем. Подслушивающий разговоры мертвых рассказчик всего трижды вставляет «ремарку», с возмущением комментируя происходящее: «Какие заносчивые, однако слова! … Ну, одолжили; нечего сказать, утеши- ли… И это современный мертвец!» [12, с. 43–50]. Ни одного из покойников не пугает и не останавливает перспектива бессмысленного бормотания глупого слова «Бобок», никто не пытается осознать, какая милость ему дарована. Мелочность и ничтожность неистребимы и продолжают одолевать людей после смерти.
Рассказ Майринка легко может быть прочитан вне оккультной темы как обвинение человечеству, сплошь охваченному разложением. Подопечными черного ворона являются грешники: «Трещина в сердце – одна-единственная – и нашего брата с почестями отправляют в мои широкие объятия» [13, с. 408]. Даже когда в них обнаруживается «что-то чистое», это «все наносное» [13, с. 409]. Прогулка по кладбищу показывает, что оно наполнено псевдоправедниками, чье пустое благочестие не помогает им миновать стадию разложения под сенью черного ворона:
– Неужто все без исключения чёрные? – сдавленным голосом спросил он.
– Все, вашмилость, все-с… Других, пардон, не держим-с! – паясничал ворон [13, с. 409].
Сам герой – не исключение, он охвачен жалостью к себе, тоской об оставленном благополучии. Единственно испытанные им страсти – зависть и жадность. Вдохновленный историей мученика, поглощенного Белым вороном, он предлагает альбиносу свое сердце, охваченный не жаром самоотречения, а исключительно желанием повторить его участь.
Макс Брод считал содержанием «Сна» Кафки «…сюрреалистический рост нарциссизма» и «…по-хотливое самоуничтожение» [22, s. 86]. И действительно, его герой погибает под гнетом смирения и соглашательства, охваченный восторгом перед эстетическим совершенством надписи на собственной могиле. Его поглощает порядок, как ему кажется, предписанный свыше. Однако безоговорочное следование этому порядку – добровольный выбор К. Он сам «захотел прогуляться», ему «захотелось остановиться», сам «изо всех сил стал рыть руками землю» [14, с. 551–552]. Педант, живущий идеей незыблемости предустановленного, К. дает возможность художнику завершить свою работу. Он так поглощен совершенством золотых букв, что воспринимает себя дисгармонирующим элементом, разрушающим сообразность сущего. Руководство со стороны воспринимается им как благо, а полученный прямой приказ упраздняет выбор, снимает ответственность, дает возможность удовлетворить свою внутреннюю потребность подчиняться. Пассивность вкупе с мелочным тщеславием («огромными узорчатыми буквами бежало по камню его имя» [14, с. 552]) позволяет его смерти и его гордыне слиться воедино и реализоваться в одном и том же моменте.
Фрагментарная надпись на фронтоне могилы, представшей перед героем Лу Синя также взывает к его перерождению. Чувство пустоты и бессилия, разочарования в революционных мечтах, бессмысленности упований заставляет его идентифицировать себя с бесчувственным трупом с вырванным сердцем. Остатки надписи, выполненной на вэньянь (основной текст стихотворения написан современным байхуа), уже на уровне языка несут в себе сакральность. Разрозненность фрагментов выстраивается в определенную логику. Чтобы приблизить будущее, нужно переродиться (пройти путем становления сверхчеловека – не зря исследователи часто видят в этом тексте «след» увлечений Лу Синя идеями Ницше). Ступени перерождения: отказ от надежды, аполлонийская стойкость в сочетании с дионисийским «буйным жаром» [15, с. 335], обретение чувства сопричастности Небу и Вечности. Тот, кто не сможет этого, обречен на превращение «в большую змею с ядовитым жалом» [15, с. 335], он будет уничтожать сам себя беспомощностью и неутолимой злобой.
Так, критическая идея у Достоевского, выраженная через палитру образов, воспринятых и оцененных героем со стороны, у последующих авторов начинает реализовываться на примере заглавного героя, одновременно являющегося и субъектом и объектом критики.
Наконец, еще один важнейший аспект текстов – самопознание. «Плачьте, а я буду вам подпевать, повторяя: “Познай самого себя,”» – писал Лукиан. Кладбищенские видения устойчиво становятся поводом к саморефлексии и нравственному выбору героя, что демонстрируют все четыре текста.
Герой Ф. М. Достоевского начинает свои записки с утверждения, что «в печати надо… идеалов» [12, с. 41] и, казалось бы, их не находит. Его ужас и возмущение, однако, приводят его не к окончательному разочарованию, а к решению: «Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть, что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное» [12, с. 54]. Приверженность вере в добрую природу человека незыблема, хотя и обильно сдобрена иронией.
О том, что рассказ «Черный ворон (Лихорадка)» Г. Майринка – рассказ о преображении, говорит уже его эпиграф. «Материя в реторте» – как раз и есть состояние героя: он должен пройти через видение ночного кладбища, как через аппарат для химических реакций, чтобы, переплавившись, принять, иную форму. Да, он оказался во власти черного ворона, но разложение, гниение, брожение – необходимые стадии перерождения в той великой единой цепи физических и психических процессов, которые предстоят адепту оккультизма, идущему так называемым «влажным» (долгим, построенном на мистических практиках) путем «растворения» в мире. Герой новеллы делает итоговый выбор и, не получив права короткого («сухого») пути, все же не отвращен от очищения и перерождения.
В трактовке новеллы Кафки большое значение имеет понимание ее связи с романом «Процесс». У них общий герой – Йозеф К., но далее начинаются литературоведческие вопросы, неоднократно обсуждавшиеся и становившиеся объектом полемики: новелла выходила четыре раза, начиная с 1916 года, но написана была раньше. В какой мере она – часть «Процесса», задумывалась ли она как альтернативный финал (здесь, действительно, есть все участники последней сцены романа, включая двоих спутников Йозефа К.) – неясно. Если рассматривать судьбу героя новеллы в контексте того пути, который он прошел в романе, то его добровольная смерть перестает быть апофеозом смирения, а превращается в добровольный выбор в пользу осознания ответственности человека за механистичность и бессмысленность его жизни, неспособность к «правильным вопросам». «Не… эскапизм, аутизм …, а именно “пограничная зона”, согласие и протест одновременно» [20, с. 681].
Кажется, герой Лу Синя движется от надежды к безнадежности. Но огорченный фрагментами на фронтоне могилы, он вдруг открывает для себя ее оборотную сторону. Надпись обещает, что истинное знание будет даровано тому, кто сможет усвоить уроки прошлого («вырвать и съесть сердце»), несмотря на страх, боль, нерешительность. Однако важно не опоздать: созидая будущее, нужно учиться у прошлого, пока оно не «истлело», иначе «как же узнаешь настоящий вкус» [15, с. 335]. Еще одно препятствие – сердца в могиле уже нет: сакральное знание досталось кому-то другому. Герою остается либо обреченно смириться, либо осознать, что у него свой путь, не связанный с истлевшими мощами. Именно решимость героя подвигает мир на последнее обещание: «Когда я обращусь в прах, ты увидишь мою улыбку!» [15, с. 336]. А значит химеры прошлого окончательно исчезнут, тлеющая древность будет преодолена и вместо пугающих уроков ран и боли, будущее будет сопровождать покровительственная улыбка прошлого.
Каждый из героев, таким образом, либо обретает надежду сам, либо становится надеждой для читателя, видящего в его судьбе потенциал обретений, озарений и открытий.
Выводы
Таким образом, само пребывание на границе жизни и смерти становится коллизией, разрушающей внутреннее равновесие каждого из оказавшихся на ней героев, подталкивающей к наблюдению за открывшейся ему мистической реальностью и самоанализу. Во всех случаях мы имеем дело с общим набором объектов внимания, организующих структуру и идеологию текста: это картины «загробного» мира, выстроенные в соответствии с представлениями автора, это элементы сатиры, поскольку загробная жизнь неизменно становится прямым продолжением жизни земной, и саморе-флексия, реализуемая в совершающемся или потенциальном преображении героя или рассказчика.
Список литературы Граница жизни и смерти как основа коллизии в новеллистике рубежа XIX-ХХ вв
- Риза-Задэ, Ф. Достоевский на Западе / Ф. Риза-Задэ // Литературная энциклопедия: в 11 т. – М.: Изд-во Ком. Акад., 1930. – Т. 3. – Стлб. 408–410.
- Кафка, Ф. Письма к Милене / Ф. Кафка; пер. А. Карельский, Н. Федорова, – М.: Пальмира, 2018. – 256 с.
- Гугнин, А. А. Кафка / А. А. Гугнин // Энциклопедический словарь экспрессионизма; под ред. П. М. Топера. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – С. 259–262.
- Турышева, О. Н. Вина как предмет художественной мысли: Ф. М. Достоевский, Ф. Кафка, Л. фон Триер / О. Н Турышева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 152 с.
- Крюков, В. Произведение в алом / В. Крюков // Майринк Г. Голем. Избранные рассказы. – М.: Эксмо, 2007. – С. 9–36.
- Каминская, Ю. В. Последняя загадка Густава Майринка / Ю. В. Каминская // Майринк Г. Ангел западного окна. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – С. 5–24.
- Алпатов, В. В. Типологические параллели в романах «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского и «Голем» Г. Майринка / В. В. Алпатов, В. Т. Аль-Гелани // Оригинальные исследования. – 2022. – Т. 12, № 11. – С. 270–282.
- Ищук-Фадеева, Н. И. Коллизия / Н. И. Ищук-Фадеева // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий; под ред. Н. Д. Тамарченко. – М.: Изд-во Кулагиной: Intrada, 2008. – С. 97.
- Гегель, Г. В. Ф. Лекции по эстетике / Г. В. Ф. Гегель // Эстетика: в 4 т. – М.: Искусство, 1968. – Т. 1. – 330 с.
- Кожинов, В. В. Коллизия / В. В. Кожи-нов // Краткая литературная энциклопедия; гл. ред. А. А. Сурков. – М.: Советская энциклопедия, 1962–1978. – Т. 3. – Стб. 656–658.
- Эпштейн, М. Н. Конфликт / М. Н. Эпштейн // Литературный энциклопедический словарь ; под ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 165–166.
- Достоевский, Ф. М. Бобок / Ф. М. Досто-евский // Полное собрание сочинений: в 30 т. – Л.: Наука, 1980. – Т. 21. – С. 41–54.
- Майринк, Г. Голем. Избранные рассказы / Г. Майринк. – М.: Эксмо, 2007. – 800 с.
- Кафка, Ф. Процесс. Замок. Новеллы и притчи. Афоризмы. Письмо отцу. Завещание / Ф. Каф-ка ; пер. с нем. – М.: Пушкинская библиотека: АСТ, 2004. – 878 с.
- Синь, Лу. Избранное / Лу Синь ; пер. с кит.– М.: Художественная литература, 1989. – 511 с.
- Герц, Р. Смерть и правая рука / Р. Герц ; пер. с фр. И. Куликов. – М.: ARS Press, 2019. – 264 с.
- Бахтин, М. М. Проблемы творчества До-стоевского / М. М. Бахтин // Собрание сочинений: в 7 т. – М.: Русские словари: Языки славянской культуры, 2002. – Т. 6. –799 с.
- Подосокорский, Н. Загробный мир в рассказе Ф. М. Достоевского «Бобок» / Н. Подосокор-ский // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. – 2023. – № 1 (21). – С. 62–95.
- Фестюжьер, А.-Ж. Откровение Гермеса Трисмегиста: в 2 т. / А.-Ж. Фестюжьер. – М.: Велигор. 2019. – Т. I. Астрология и оккультные знания. – 624 с.
- Гарин, И. И. Век Джойса / И. И. Гарин. – М.: Терра–Книжный клуб, 2002. – 848 с.
- Белый, А. Трагедия творчества. Достоевский и Толстой / А. Белый // Критика. Эстетика. Теория символизма: в 2 т. – М.: Искусство, 1994. – Т. 1 – С. 392–421.
- Stach, R. Kafka Die Jahre der Erkenntnis / R. Stach. – S. Fischer Verlag 2008. –736 s.