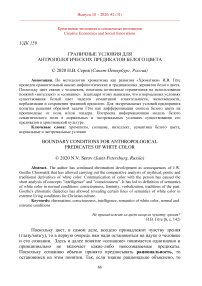Граничные условия для антропологических предикатов белого цвета
Автор: Серов Н.В.
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 2 (31) т.10, 2020 года.
Бесплатный доступ
По методологии хроматизма как развития «Хроматики» И.В. Гёте проведен сравнительный анализ мифопоэтических и традиционных дериватов белого цвета. Поскольку цвет связан с человеком, показаны возможные ограничения на использование понятий «интеллект» и «сознание». Благодаря этому выявлено, что в нормальных условиях существования белый цвет наделен семантикой сознательности, женственности, вербализации и сохранения традиций прошлого. Для экстремальных условий предпринята попытка решения обратной задачи Гёте как дифференциации синтеза белого цвета на производные от пола и/или гендера. Построена информационная модель белого семантического поля в нормальных и экстремальных условиях существования его предикатов в христианской культуре.
Хроматизм, сознание, интеллект, семантика белого цвета, нормальные и экстремальные условия
Короткий адрес: https://sciup.org/142224072
IDR: 142224072 | УДК: 159
Текст научной статьи Граничные условия для антропологических предикатов белого цвета
Не принадлежит ли цвет всецело чувству зрения?
И.В. Гёте [6, с. 142)
Поскольку цвет, в самом деле, всецело принадлежит чувству зрения (глазу/мозгу), то в первую очередь нам надо остановиться на науке о человеке и его сознании. Здесь и далее понятие «сознание» понимается однозначно и принципиально не включает какие-либо неосознаваемые предикаты. Поскольку сознанию обычно принято предписывать рациональность , то остановимся на этом понятии. Так, если знание рационально объяснено, то
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations почему стратегия рациональных объяснений так эффективна в исследовании мира? Если же попытаться рационально доказать утверждение, что всё должно быть рационально объяснено, то это доказательство не в состоянии предположить, что именно оно призвано объяснять (доказывать). Поэтому, когда мы строим наше доказательство, то не можем использовать рациональные средства доказательства (ибо они предполагают, что мы должны доказать нечто), то есть доказательство не может быть произведено. И основой для этого всегда служили основополагающие принципы формальной логики.
Маловероятно, чтобы сегодня кто-либо оспорил это положение. Ибо нет другого пути выхода из этой дилеммы, кроме осознания, что постулат о необходимости рационально объяснять наши убеждения является нашим выбором. И мы останавливаемся перед альтернативой: или, когда мы занимаемся наукой, мы делаем это рационально, или мы признаём иррациональный способ заниматься наукой. Рациональность – это ценность. Это легко можно увидеть, противопоставив рациональность иррациональности. И если человек не всегда рационален («Чувства не обманывают, обманывает суждение» [6, с.150], то, согласно М. Хеллеру, «мы оцениваем рациональность как нечто хорошее, а иррациональность – как нечто плохое. Когда мы выбираем рациональность, мы выбираем нечто хорошее. Следовательно, это нравственный выбор. Этого вывода не удаётся избежать: в самом основании науки стоит нравственный выбор» [21, c. 188] (выделено мной – Н.С.).
Замечательно... И это вынуждает нас вслед за С.С. Аверинцевым [1] отделить понятия «рационализм» и/или «прагматизм» от понятия рациональности как свойства homo sapiens, от разумности, присущей еще гомеровскому Одиссею, ибо представляется чрезвычайно важным, что переход от рациональности к рационализму, т.е. от неформализованной рациональности к формализованной, от разумности как свойства homo sapiens к формированию техники самопроверки мысли, когда существуют такие вещи, как гносеологические проблемы, правила логики и т.д., – что переход этот никоим образом не плавный и не может быть описан как эволюция . Но ведь с начала ХХ в. мы постоянно встречаемся и с таким соотношением рациональность/иррациональность как коррупция в науке.
Всегда ведь рациональнее «борзые щенки» чиновнику от министерства или грантодателя, чем прямая конкуренция с новыми научными направлениями… Что с этим делать, если догматизация устаревших теорий оказывается более рациональной, чем дискуссии и – неизвестно чем заканчивающиеся – сопоставления с новейшими научными идеями?
Рационально же просто замалчивать эти идеи? И если это, в самом деле, нравственный выбор , то как тогда понимать рациональность «научного» 67
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations определения «сознания» в психологии? Все-таки семантика понятия не может противоречить его смыслу, что в психологии оказалось иррационально обратимым: «сознание» включает в себя неосознаваемые компоненты.
Аналогично получилось у науки ХХ в. и с классическим определением «интеллект» (лат. «intellectus» - ощущение, восприятие, понимание), из которого для рациональности последующих действий прагматики от науки исключили какие-либо неосознаваемые (метакогнитивные) компоненты реального интеллекта. Сегодня же когнитивистский подход ХХ в. (элиминировавший ощущение как метакогнитивную функцию интеллекта) подвергается вполне рациональной критике. Так, М.А. Холодная подчеркивает, что без учета аффективной сферы «интеллект исчезает». Именно это заставляет исследователей включать в интеллект и формирование метакогнитивных механизмов интеллектуальной деятельности, и субсознательный уровень процессов переработки информации и т.п. [22, c.59-82, 127-132, 137-138, 239-247]. Поэтому, возвращаясь к классическому определению интеллекта («intellectus»), мы рационально выделили триаду его традиционных атрибутов: ощущающее тело (бессознание), воспринимающий дух (подсознание) и понимающая душа (сознание). Отсюда вытекает и цель настоящей работы – изложение антропологических предикатов белого цвета с позиций сознания.
Согласно Гегелю: «Душа есть нечто всепроникающее , а не что-то существующее только в отдельном индивиде» и, вообще говоря, «Душа есть сознание» [5]. Отсюда СОЗНАНИЕ - (ДУША, рассудок, социо, рацио, белый цвет, Мт-план АМИ ) – произвольно осознаваемые функции социальной обусловленности, вербального мышления и формально-логических операций при рациональном «понимании» и операциях с цветами, опредмеченными в каких-либо знаках и/или в словах (в науке, философии и т.п.). К примеру, как замечает И. Кант, человеческий рассудок дискурсивен и может познавать только посредством общих понятий [10, c. 115, 1091]. Все эти качества понятны и доступны любому социализированному человеку в той же степени, что и белый цвет. Так и Платон в рассуждениях о душе человеческой (Федр, 253 d) наделил белым цветом женственно совестливую ее часть, которая чтит законы, традиции и нравы общества. Во всех традиционных обществах с белым соотносились такие свойства человека, как сознательное исполнение долга, социальная сплоченность, сохранение традиций, всеобщая осведомленность и память [8; 19; 28 – 31].
В обычных условиях существования общества белизна всегда служила символом женских качеств . «Белорукая» - эпитет только женских божеств. В конфуцианстве Инь - белая, стихия «Метал», женственная душа [7, c.432-437]. У Платона Мойры (богини человеческой судьбы) во всем белом (Гос. 617 с). Покрыта белою чадрой, / Княжна Тамара молодая / К Арагве ходит за 68
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations водой (Лермонтов). Среди белых видений явно преобладают женские образы, как это отмечает А. Ханзен-Леве [20, c.455]: Белая Женщина, объект мистикоэротического или экстатического поклонения, все более тяготеет к исключительно земной интерпретации или, по крайней мере, приобретает земные, а у Городецкого - прямо-таки фольклорные черты. «...И, беспощадная, коварно / Везде стоит на страже Ночь, - /... / И где-то белое сияет, /... / И женщин белых восклицанья / В бреду благовестят - про что?..» (Иванов); «...Белело тело, белое, как хмель / Кипучих волн озерных. / Тянул, смеясь, веселый Лель / Лучи волосьев черных...» (Городецкий); «Как пряма и как строга, / Как стройна и как бела! / Белизну ты где взяла? / Пред тобой серы снега...»; «...Я любил твое белое платье...» (Блок); «...Ты вспомнил ту нежность, тот ласковый сон, /.../ Когда подходила Ты, стройно-бела, / Как лебедь, к моей глубине...»; «...Я Белую Деву искал - /.../ Я Древнюю Деву искал...»; «...И луч сиял на белом плече, /.../ Как белое платье пело в луче...»; «...И маску белую дала / И светлое кольцо...» . «Как плавных волн прилив под пристальной луной, /... / Былою белизной душа моя бела...» (Иванов). Замечательный образ белизны женственного цвета выразил Рильке: «Мне виделось - все женщины на свете / Как бы слились в то белое пятно».
Т. Манн в романе «Доктор Фаустус» называет фату «белым саваном девственности». Весьма близкую коннотацию можно видеть и в грузинской свадебной песне: «Сшили белое платье Тамаре-деве, / Посадили на белого коня Тамару-деву…» . « Добродетельная жена... виссон и пурпур – одежда ее » (Прит 31: 22). Невеста Агнца в виссоне (Откр. 19: 8). Это свойство белого связывается многими исследователями и с женственностью, и с традициями прошлого и др. [26]. В староитальянском bianco указывало на светлый облик, белоснежную кожу и, обычно, светлые волосы: bella e bianca -распространенная характеристика красавиц в куртуазной поэзии XIII-XV вв; Isotta dalle Blanche Mani 'Белорукая Изольда'. Вне поэтического контекста возможно то же сочетание в приложении к черноволосым: Le donne sono belle e bianche, con capelli neri e risplendenti 'Женщины красивы и белокожи, с черными, блестящими волосами' [23, c. 251]. Итак, ‘белый’ репрезентативно связан с женским - по природе своей социализированным - сознанием в N-условиях существования. Да и традиционно белый цвет всегда олицетворял цвет Великой Матери, цвет женщины, ибо белой создана она из белой кости : «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену » (Быт. 2, 22). Вспоминается М. Цветаева: «Во всей девчонке ни кровиночки…/ Вся, как косыночка, бела».
В русской культуре 'белый' может выступать как постоянный эпитет, маркирующий положительные свойства людей и предметов: 'белая' (о девушке) - хорошая, своя, наша (там же), 'белая береза' - хорошее, любимое дерево. Сема 'хороший' содержит целый ряд фразеологизированных 69
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations номинаций с термином белого цвета. К числу дериватов относится наименование женщины 'белянка' («светловолосая или белолицая») [11, c.295].
Женщина всегда была хранительницей традиций ( прошлого ), дома и очага, обладала лучшей социальной адаптацией и много меньшей (чем мужчина) криминогенностью. Психологам хорошо известны и прекрасные способности женщин к вербализации, обучаемости и т.п. Да и понятие душевности, включающей и альтруизм, и социальную потребность жить «для других», как правило, соотносится с женщиной. Постоянное упоминание белого цвета как маркера женственности встречаем в Калевале: В платье чистое одета, / В одеянье белой ткани (8: 1); Белых рук не открывай ты, / Белой груди не кажи ты, / Стройным станом не хвалися! (19: 3); Чистая с тобой девица, /Ясная с тобой в союзе, /Белая в твоем владенье (24: 1); Белые на них платочки (46: 2).
Так, почти во всех мифологиях женщина в белом (Великая Мать-богиня) являлась подательницей благ, высшей мудростью, охранительницей традиций. К характерным свойствам женского сознания могут быть отнесены материнство, миролюбие, рассудочность, восприимчивость к воспитанию и обучению, лучшие вербальные способности, эмоциональная теплота, инстинктивная готовность к контактам и многое другое. «Белизну сознания» с его атрибутивной вербализацией удивительно точно «высветил» А. Блок: «всё, что в пурпур облекалось, / Шептало белые слова...». Действительно, эти «белые слова» могут теоретически всё: и родить идею, и убить мысль и/или человека, и содержать в себе всё, и не содержать в себе ничего… На это обращал внимание Гёте: «Насколько же трудно не ставить знак на место вещи, всё время удерживать перед собой живую сущность и не убивать ее словом!» [14, c. 343].
С позиций хроматизма это нагляднее всего было выражено Платоном: «Что же, белое - это цвет вообще или один из цветов?». Добавлю к этому, что именно «терминологическая белизна» философского сознания ограничивала познание цвета догматами гносеологии. Ведь со времен Платона гносеология «сознания» включала и сознающую, и несознающие сферы мышления. Прагматики же ХХ века оставили лишь сознающую, ибо проще изучать понятное, или, говоря современным русским языком, «по понятиям»… Витгенштейн же лишь разъяснил, что «понятие» – это расплывчатое понятие [4, c. 205] и , в частности, конкретизировал, что «логика понятия “цвет” гораздо более сложна, чем это могло бы показаться»[35, p. 29]. Очевидно, эта сложность объяснятся тем, что, по заключению Г. Бейтсона, «наша иконическая коммуникация обслуживает функции, полностью отличные от функций языка, и, очевидно, выполняет функции, для выполнения которых вербальный язык непригоден» [3, c.376-377]. В хроматизме эта сложность устранена введением именно иконических 70
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations образ-концептов, что позволило использовать концептуально-зависимые функции компонентов саморазвивающихся систем при построении их информационных моделей [15; 16].
Вместе с тем, о сновное социальное значение белого практически неизменно во всем мире с одинаковым значением (флаг парламентера -белый): цвет мира, примирения, перемирия, партийной и внешнеполитической нейтральности. Таким образом, символическое значение белого флага вполне согласуется с семантикой белого цвета - традиционность, мир, социальность. По своей природе белый цвет как бы нейтрализует действие полихромных цветов, да и вообще весь материальный мир. Не зря же во многих культурах существуют такие метафорические маркеры как белоснежная зима, белая память прошлого, леденящие просторы . Поэтому может быть легко понято и достаточно частое соотнесение белого с пустотой, бестелесностью, выцветанием, с ледяным молчанием и т. д. и т. п. Как размышлял по этому поводу Г. Мелвилл, «обыденный многовековой опыт человечества говорит о сверхъестественных свойствах этого цвета. Ничто не внушает нам при взгляде на покойника такого ужаса, как его мраморная бледность; будто бледность эта знаменует собой и потустороннее оцепенение загробного мира, и смертный земной страх» [13, c. 292-302]. На мой взгляд, Мелвилл выразил здесь достаточно объективную оценку белого цвета как сублимата человеческого сознания с его ужасающей логикой и сверхъестественными свойствами компьютера. И как после долгого смотрения на белую поверхность человек теряет способность различать какие-либо цветные оттенки [2, c. 40], так и взрослый считает эту логику своего сознания естественной, ибо его с детства приучили к ее повседневности.
Наиболее наглядным хроматическим примером этому может служить замечательное правило, которое сформулировал еще Леонардо да Винчи: «Белое более восприимчиво к любому цвету, чем какая угодно другая поверхность любого тела» [12, §215]. Гёте же заключает, что каждый цвет производит на человека особое впечатление и тем раскрывает свою сущность глазу и душевному настроению. Отсюда сразу же следует, что цвет может быть использован в определенных чувственных, нравственных и эстетических целях [14, c. 397]. Как это проявилось на практике ХХ – XXI вв., мы хорошо знаем: практически каждая современная квартира стала единообразной из-за так называемого «евроремонта», на прагматически «невыгорающем» фоне которого белизна сознания позволяет вставлять «всё, что ни пóпади»… И сознание же (как компонент интеллекта) придумало войны во имя денег, придуманных им же. Именно сознание придумало и коррупцию, которую прагматики посчитали более успешной, чем конкуренция. Именно сознание ученых разобрало человека по винтикам и теперь никак не может собрать его в изначально естественном виде. 71
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Психологи считают, что белый цвет - это цвет без эффекта. Это – “tabula rasa” (чистая доска), на которой еще предстоит написать нечто содержательное [31; 34]. Как наше сознание, как сознание младенца впитывающего с белым молоком Матери всю эту вербальную белизну науки жить в обществе. Да, «вначале было слово. И слово было Бог». И мы вместе со словом обожествили и олицетворявшую его науку, т.к. наука наша положила именно слова в свои «Начала». Не зря же Фрезер говорит о белой нити науки, увязывая последнюю с рациональностью слов и сознания. Р. Л. Руссо также считает белый цветом божественной науки и интегрального знания науки современной [34]. И Эдвард де Боно находит в концепте белого цвета бесстрастную манеру изложения, оперирование фактами и объективной информацией, а Герике и Шоне называют белый цвет символом сознания и знаний [30, c.128].
И сознание хранило эти знания в традициях прошлого, в своей сублимированной памяти белого цвета. «В плане же морали, — отмечает Э.Бремон, – белый цвет ведет нас к таким понятиям, как чистота, опрятность, бессмертие и осмысленность порядка» [25, p. 56]. И эти понятия, безусловно, связаны с цветом грудного молока как цветом Материнской сущности, цветом нашей первичной социализации. И социализирующееся сознание младенца как нельзя более восприимчиво к этому цвету. Лишь со временем (при взрослении) в этом белом мы вдруг бессознательно ощутим ту оппозиционность к черному сексусу, которой наделяет даосизм свой основной символ - Тайцзи [7; 18]. В младенчестве же мы весьма далеки от этого. Все мы - и мужчины, и женщины - рождены женщиной и, как правило, будучи младенцами, вскормлены ее грудью. И кормление это, и белизна грудного молока, и белизна матери - все это Материнская ипостась любви. И Эмиль Верхарн это выразил прекраснейшим образом в «Венере»: « Когда же у груди твоей лежал Эрот, - Дышала эта грудь любовью всей вселенной ». Или как говорит Б. Окуджава, « Белую краску возьми, Потому что это – начало» . Ибо именно с кормлением младенец усваивает именно начала социализации: Нет! – нельзя причинять боль материнской груди! ) И эта белизна как нельзя лучше согласуется с концепцией К.Г. Юнга, согласно которой, в частности, архетип Матери является вводящим нас в будущую жизнь, определяемую в младенчестве прежде всего собственной матерью.
Сегодня же, по замечанию Э. Бремон [25, p. 57], белый – цвет нерешительности, колебаний, сомнений, пассивности и бессилия . Однако с позиций подсознания этими свойствами наделено именно сознание (как компонент интеллекта), поскольку, прежде всего, оно связано с памятью прошлого. И сразу же возникает ассоциация с белоснежными одеждами женщин, «жриц времени» и «рабынь календаря», которые хранили, хранят и будут хранить в себе, в своем белом сознании все традиции прошлого и 72
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations разумные своей белизной устои общества. Поляки и венгры называли женщин «белым народом». Возможно, и не только потому, что кожа женщин обычно светлее мужской. «Прельщается Фома, как убелится кума». В аспектах гендерного сопоставления В.Г. Кульпина приводит множество примеров, которые выявляют именно женственную семантику белого цвета для нормальных условий существования [11, c.97]: «Мыла Марусенька белые ноги…». Б. Окуджава также не мог обойти столь очаровательный факт: «Она по проволке ходила,/Махала белою ногой...»
Вообще говоря, как считают мужчины, к женщине, одетой в белое, можно относиться только «с особым почтением», ибо она «кажется окруженной неизъяснимым магическим ореолом”. А следовательно, — и «возвышеннее, нежнее и недоступнее». Наверное, поэтому никто и никогда еще не называл «белый танец» исключением из правил цветового смысла. Раньше это было известно всем. Так считала и М. Цветаева: « Вся наша белая дорога / У них, мальчоночков, в горсти. / Девчонке самой легконогой / Все ж дальше сердца не уйти!» По мнению современных психологов, женщинам в белом свойственны бескомпромиссность, некоторая холодность сердца и отсутствие кокетства с мужчинами [31; 34]. Об этом же писали и женщины в начале XX в.: белый цвет - утверждающий, черный - отрицательный. Женщина, одетая во все белое, внушает мужчине более уважения… Белый цвет отгоняет недобрые и грешные мысли - освещает темноту.
С другой стороны, исключая белое, все цвета « со временем » выгорают и превращаются в белесоватые также как само время все более и более уходит в прошлое, превращается в «память человечества». В « нетающие снега былых времен » Ф. Вийона. Или, как мы читаем у Рильке: «Как одиноко все и как бело, / ..забыв о времени, - оно ушло» . Или, как символизирует память А. Блок: «Я всех забыл, кого любил, /Я сердце вьюгой закрутил, /Я бросил сердце с белых гор». Или, как М. Цветаева передает смысл белого: «Есть пробелы в памяти, - бельма / На глазах: семь покрывал. / Я не помню тебя отдельно / Вместо черт - белый провал». Или, как это выразил Б. Пастернак: «И все терялось в снежной мгле /Седой и белой» . Или, как поет Ю. Шевчук: «Белая река - о былом.». Или как А. Андреев пишет в «Паутине»: «стирательная резинка времени хочет оставить лишь снег».
Заснеженный пейзаж, хотя и возбуждает в нашей душе чувство стерильной чистоты, но не может вызывать ассоциаций с античеловеческим холодом, с отсутствием жизни, со смертью, одним словом. Такие впечатления о белом цвете возникают у Р.-Л. Руссо [34, p.147]. В самом деле, белое заснежье лишь временно покрывает землю, чтобы возродилось новое, а старое ушло вместе с белым, с памятью - в прошлое. Аналогичная семантика может быть легко раскрыта и для случаев савана или фаты невесты: прошлое забирает старое (отжившее свое время) в свои белые 73
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations архивы памяти не только для того, чтобы дать место новому, но для того, чтобы это новое могло руководствоваться достижениями отжившего старого.
Представленная в табл. 1 онтология ‘белого’ семантического поля в христианской культуре соотнесена с доминирующими компоненты интеллекта и хром-планами в нормальных граничных условиях, где для релевантного моделирования пола/гендера (f и m) показана цельность диалектики женского интеллекта в сопоставлении с мужским, а также возможные корреляции с семейными, социальными, логическими и временнӹми предикатами.
Таблица 1. Семантика ахромных канонов в N-условиях
|
Цвет |
Каноны и доминанты гендера |
Род |
Имя |
Среда |
Логика |
Времена |
χ-план |
|
Белый |
Инь, сохранение традиций (f) |
Мать |
Душа |
Социум |
формальная |
прошлое |
M- |
|
Серый |
незаметность творца (m) |
Отец |
Дух |
Культура |
образная |
настоящее |
Id- |
|
Черный |
Инь, зачатие – рождение |
Дети |
Тело |
Природа |
генная |
будущее |
S- |
Примечание 1. Гендер, т.е. психологический пол, по моим оценкам, соответствует паспортному (физиологическому) примерно в 75% случаев. Антропология до сих пор мирится с неадекватной синонимичностью понятий «пол» и «гендер», которую психологи переняли от американских социологов феминистических направлений [27].
Переходя к экстремальным (Е) условиям существования предикатов белого цвета, вспомним, что в период французской революции 1789–94 гг. «белыми» стали называть монархистов. Это название являлось производным от цвета знамени сторонников короля, в Новейшее время (в период Гражданской войны 1918–20 гг.) оно было перенесено на противников «красных» (большевистской власти в России). Таким образом, символическое значение белого флага вполне согласуется с семантикой белого цвета -традиционность, мир, социальность. «БЕЛАЯ РУСЬ», «БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ», «БЕЛОЕ ДЕЛО» – те традиции и культура, за сохранение которых боролись Деникин, Врангель, Марков, Колчак, Кутепов, Каппель и многие-многие другие достойные люди России.
В грандиозной попытке обобщить всю символику русской поэзии первой четверти ХХ в. А. Ханзен-Лёве весьма своеобразно представил Россию в Е условиях [20], по-видимому, не совсем понимая, что в России почти всегда экстремальные условия существования. Здесь и нескончаемая коррупция, и бесправие личности перед властью, и произвол силовиков, и 74
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations даже экстремальные погодные условия… Так, результатами этого труда оказались весьма своеобразные выводы о эсхатологичности/апокалиптичности российского пути развития, на чем мы не будем останавливаться, лишь подчеркнув, что поэты символисты в не могли не чувствовать эсхатологичность большевизма, но никак не собственно идею коммунизма, которую большинство из них вынашивало задолго до этого периода.
Кстати, лучшей идеи и/или веры, на мой взгляд, человечество так и не создало; иное дело, что большевики и левакѝ так ее исказили своим красным цветом, что она и «покраснела от стыда» за них так, что только Бахаи и Хроматизм смогли «убелить» ее своим отношением к личности. Вместе с тем для нас данный труд Ханзен-Лёве оказался прекрасным подспорьем для систематизации поэтических откровений о глубинной (поэтико архетипической) семантике цвета, как мы это видели выше.
Интересно, что в китайском театре (театр = виртуальная реальность, т.е. экстремум бытия) маска белого цвета означала отрицание прямодушия и искренности и указывала на предателя, презренного человека [18] . Любопытно, что английские идиомы буквально вторят китайской цветовой семантике: white lie: милая, вежливая или безвредная ложь; whitewash: обманчивые слова или действия, используемые для скрытия какого-либо факта; white feather: трус [33]. Или, как говорит Гёте, «наши состояния мы приписываем то Богу, то Черту, и в обоих случаях ошибаемся: в нас самих лежит загадка, в нас порождения двух миров. Так и с цветом: то его ищут в свете, то снаружи, во вселенной, и не могут найти его только в его собственном доме» [6, с. 153].
Из-за ограниченного объема настоящей работы мы не анализируем семантику перехода женского/женственного и мужского/мужественного интеллекта из нормальных (N) в экстремальные (Е) условия существования. Так, еще К.Г. Юнг подразделял эти отношения, эти условия на две половины пути, ибо одна половина пути бела, другая черна. Я ступаю на черную и испуганно отступаю: это - горячее железо. Я ступаю на белую: это – лед <…> . Принятие женственности ведет к завершению. То же самое действительно для женщины, которая принимает свою мужественность, …если Вы принимаете это, …Вы становитесь тем, кого называют белая птица души . И это же мы видим в его записях, где постоянно встречается тот же архетипический образ: моя белая птица. Моя надежда – с моей белой птицей. И здесь же белый свет Божественности [32, p. 140, 264, 277, 326, 342] (выделено мной – Н.С.). И, само собой разумеется, это многостадийный процесс, который, однако, имеющиеся базы данных позволяют представить по завершающим стадиям релевантных доминант.
В древних обществах белый обычно олицетворял союз мужчины и женщины (семя) и одновременно – союз матери и младенца (молоко). И здесь уже становится весьма актуальным вопрос о гендерной принадлежности 75
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations белого цвета. Как упоминает В. Тернер, «белая река» у племени ндембу является бисексуальным символом, представляя как мужское семя, так и женское молоко. Иначе говоря, согласно Тернеру, белые предметы могут символизировать как мужские, так и женские объекты, в зависимости от контекста или ситуации [19]. Или как это конкретизируется в хроматизме, в зависимости от нормальных или экстремальных условий. Иначе становятся необъяснимыми последующие рассуждения Тернера, где он говорит о белом как символе воспитания. «Это качество «делается зримым» (говорят ндембу) в таких материальных проявлениях, как грудное молоко, семя, каша из кассавы. Оно символизирует верную преемственность между поколениями и связано с радостями еды, зачатия, вскармливания» [19].
Но, если кормление грудью для женщины и, разумеется, для младенца – норма жизни, то семяизвержение для мужчины (творца, традиционно бравшего на себя функции правления в экстремальных условиях) – экстремум сексуса. Критерием экстремальности в хроматизме принято считать интервал времени : нормальные условия жизни занимают много больший отрезок времени, чем экстремальные .
Таким образом, уже в отношениях материальных (физиологических) маркеров белого цвета проявляется половой диморфизм человека в различных (нормальном или экстремальном) состояниях.
Испокон веков в традиционных обществах белый цвет ассоциировался с «духом предков», то есть наделялся свойствами божественности в необозримых временах прошлого. Так, в племени пигмеев Новой Гвинеи судьбу будущих браков решали мужчины. И головы этих же мужчин по случаю праздников обязательно украшались султанами из белых перьев, как знака традиционности происходящего. И женщины этого племени слушали мужчин в белых головных уборах, ибо белый цвет был священным и говорил от имени духов предков. Иначе говоря, в праздники мужчинам полагался белый цвет. «Белизна не только служит знаком социальной сплоченности и традиции, но и вообще символизирует все явное, очевидное и открытое… Белизна – это цвет всеобщего свéдения, публичного признания». – заключает В. Тэрнер [19]. Об этом же пишет Д. Заан, исследуя совершенно другие племена: белизна и здесь означает соответствие «тому, чего ожидает общество от своих членов, а общество хочет взаимопонимания и мира…» [8].
Следует оговорить тот факт, что при анализе доминант интеллекта у каждого пола/гендера следует учитывать, что нет и не может быть одинаковых людей. У девочки, к примеру, в N условиях может быть доминанта подсознания, у девушки – подсознания + бессознания, у матери – правосознания и т.д. и т.п. Что же тогда говорить об этом в Е условиях, например, войны, когда одна женщина спрячется от всего и вся, а другая пойдет воевать… В концепции конфуцианства и белый, и черный цвета 76
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations являются характеристическими свойствами женственной категории Инь, тогда как красный цвет характеризует мужественную категорию Ян. Иначе говоря, мужское начало являлось границей между двумя крайними проявлениями женского интеллекта: между светом социализации и тьмой сексуализации. И, если раньше роль этой границы играло красное, физически-активное бессознание мужчины, то сегодня его серое, духовно-творческое подсознание в N условиях и поддерживающее женщину в Е условиях белое самосознание (a white knight) [9, c.25].
«Так как мы не в состоянии прямо выразить то, что происходит в нас, то ум пытается оперировать противоположностями, ответить на этот вопрос с двух сторон, и таким способом как бы поставить предмет посредине» [6, с.176]. Отсюда можно наметить определенные тенденции на основе тезисов гётеанской диалектики: если «противоположность крайностей, возникая в некотором единстве, тем самым создает возможность синтеза» [6, с.176], то знание доминант в N условиях позволяет выявить и доминанты в Е условиях при решении обратной задачи.
И если в N условиях у матери существует белая доминанта правосознания, то в Е она может меняться на оппозиционно черную доминанту бессознания. Так, в табл. 2 информационная модель ‘белого’ семантического поля в христианской культуре соотнесена с хром-планами в горизонтальном представлении; жирным шрифтом выделены материальные маркеры белого цвета, доминирующие компоненты интеллекта и хром-планы в данных граничных ( N и Е ) условиях для релевантного пола/гендера (f и m).
Таблица 2. Информационная модель белого в N и Е граничных условиях
|
Условия |
Пол / Гендер |
Ма (маркеры) |
S- (тело) |
Id- (дух) |
Mt (душа) |
χ-пла-ны |
|
N |
f |
Грудное молоко |
Кормление |
Воспитание m |
Правосознание M f |
M f > Id |
|
«Белые одежды» |
« белое тело » |
Традиции |
Вербализация |
|||
|
m |
(уподобление f) |
поддержка f |
воля |
Самосознание M m |
Id > M m |
|
|
(серые одежды) |
работа |
социализация |
формальная логика |
|||
|
E |
m |
семя |
поддержка f |
Подсозна ние |
образная логика |
Id > S |
|
f |
« закрыв глаза » |
Бессознание |
генная логика |
«тёмное тело души » |
S > Id |
С этих позиций становятся более понятными и высказывания феминисток о том, что известные всем женские качества эмоциональности и интуиции противостоят сугубо рациональному мышлению «мужчин-роботов».
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Очевидно, все зависит от личности, но легко видеть и явную относительность этих представлений даже для N условий. Так по сравнению с мужским подсознанием женское бессознание всегда было более эмоционально. В то же время материнское сознание более мудро, реалистично и рационально, чем мужское «инфантильное» подсознание в нормальных условиях существования человека.
При этом не следует забывать, что женщина самой природой - ее белым цветом — наделена более совершенными социальными характеристиками. И, разумеется, более социальными по сравнению с мужчиной, которого она с детства вынуждена социализировать ( «не реви..!» и т.п.) для создания будущей опоры последующих поколений – опоры женщин, а значит, и общества. Девочке этого никогда не скажут ( «поплачь милая, поплачь и все пройдет» и т.п.). Ибо за девочку все придумала природа, и душа ее от природы наделена белым цветом, основной смысл которого – социальность. В общем, женщина – удивительно гармоничное создание со всеми противоречиями прошлого и будущего, белого и черного, сознания и бессознания человека. Детальнее этот тезис расписывает М. Элиаде: «Полностью рациональный человек – это абстракция; его нет в реальной жизни. Всякое человеческое существо характеризуется, с одной стороны, сознательной деятельностью, а с другой – иррациональным опытом. <…> Содержание и структура бессознательного являются результатом бытийных ситуаций, имевших место в незапамятные времена, особенно критических ситуаций» [24, c.130].
Следует признать, что данная попытка лишь демонстрирует принцип построения единой онтологии ‘идеальных’ и ‘материальных’ предикатов бытия… Вместе с тем даже это приближение (в приведенных связях и отношениях между атрибутами семантики белого цвета) выявляет важность учета N или Е условий для любых онтологий, включающих какие-либо антропологические факторы. Поскольку же абстракции хром-планов в сочетании с семантикой цвета представляют системообразующий фактор, можно полагать, что в подобных онтологиях будут одновременно задействованы и абстрактные, и сублимированные модусы релевантных связей и отношений, - как это предполагается в работе естественного интеллекта [17].
Согласно Гёте, «мы и предметы, свет и тьма, тело и душа, две души, дух и материя, Бог и мир, мысль и протяжение, идеальное и реальное, чувственость и разум, фантазия и рассудок, бытие и стремление (Sein und Sehnsucht), – две половины тела, правое и левое, дыхание; физический опыт: магнит. Большая трудность в психологической рефлексии состоит в том, что внутреннее и внешнее нужно всегда рассматривать параллельно или, вернее, как сплетенные одно с другим. Это – непрестанная систола и диастола,
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations вдыхание и выдыхание живого существа; если это отношение и нельзя выразить, то нужно внимательно наблюдать и отмечать его» [6, с. 175].
Чтобы быть истинным творцом, необходим набор весьма мужественных черт характера. Здесь и способность верить в собственные силы. Здесь же и такая, весьма далекая от сохранения традиций, черта характера, как разрушение сложившихся стереотипов (сокрушение памятников, по Ницше).
Фемининная женщина призвана сохранять традиции и поклоняться памятникам. Маскулинный же мужчина разрушитель-воин, тогда как маскулинная женщина и/или фемининный мужчина – строители новых зданий культуры. Ибо история гласит, что лучшими творцами всегда были фемининные мужчины и маскулинные женщины. В этом, на мой взгляд, и заключается мужественность творчества умение создать себе памятник не вместо, а рядом с уже существующими. И, на мой взгляд, девизом современной науки может cтать изречение И.В. Гёте: «Человек должен держаться веры, что непонятное доступно пониманию» [6, с. 138].
Список литературы Граничные условия для антропологических предикатов белого цвета
- Аверинцев С.С. Два рождения европейского рационализма и простейшие реальности литературы // Человек в системе наук. М.: Наука, 1989. С. 332-342.
- Алексеев С.С., Теплов Б.М., Шеварев П.А. Цвет в архитектуре. М.; Л.: ГСИ, 1934.
- Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М.: Смысл, 2000.
- Витгенштейн Л.Б. Философские работы. Ч. 2. М.: Гнозис, 1994.
- Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии духа // Логос. 1999. №4(14). С. 119-132.
- Гете И.В. Учение о цвете. Теория познания. М.: Либроком, 2013.
- Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М.: Наука, 1990. С. 432-437.
- Заан Д. Белый, красный и черный: цветовой символизм в черной Африке // Психология цвета. М.: Рефл-бук, 1996. С.47-78.
- Завьялова Н.А. Фразеологические единицы с колоративным компонентом. Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 2011.
- Кант И. Основы метафизики нравственности. М.: Мысль, 1994.
- Кульпина В.Г. Лингвистика цвета. М.: МГУ, 2001.
- Леонардо да Винчи. Избр. произв. М.: Ладомир, 1995.
- Мелвилл Г. Моби Дик или белый кит. М.: Географлит, 1961.
- Месяц С.В. Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете. M.: Kpyгъ, 2012.
- Серов Н.В. Концептуализация предикатов спора Гёте с Ньютоном о цвете // НТИ. 2019. Сер.2. N 8. С. 3-15.
- Серов Н.В. Размерностная онтология моделирования антропологических баз данных. // НТИ. 2010. Сер.2. N 1. С.1-14.
- Серов Н.В. Светоцветовая терапия. СПб.: Речь. 2001.
- Серова С.А. Пекинская музыкальная драма. М.: Наука, 1970.
- Тернер В. Проблема цветовой классификации в примитивных культурах …// Семиотика и искусствометрия. Сб. статей. М.: Мир, 1972. С. 50-81.
- Ханзен-Лёве А. Русский символизм. / Пер. с нем. СПб: Академ.проект, 2003.
- Хеллер М. Творческий конфликт / Пер. с англ. М.: ББИ, 2005.
- Холодная М.А. Психология интеллекта. СПб: Питер, 2002.
- Челышева И.И. Система цветообозначений итальянского языка // Наименования цвета в индоевропейских языках. М.: КомКнига, 2007.
- Элиаде М. Священное и мирское. М.: МГУ, 1994.
- Brémond É.L'intelligence de la couleur, Paris: Albin Michel, 2002. P. 57.
- Chevalier J., Gheerbrant A. Dictionnaire des symbols, V.2. P.: Seghers, 1973.
- EaglyA.H., BeallA.E., Sternberg R.J. The psychology of gender. N.Y.: Guilford Press, 2004.
- Forman Y. (Red.) La couleur: nature, histoire et décoration. P.: Le Temps Apprivoisé, 1993.
- Gage J. Color and culture. L.: Thanes & Hudson, 2005.
- Gericke L., Schöne К. Das Phänomen Farbe. Berlin: Henschelverlag, 1970.
- Heller E. Wie Farben wirken. Farbpsychologie. Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH, 1999.
- Jung C.G. The Red Book. Liber Novus. N.Y.-London: W.W.Norton & Co., 2009.
- Mironenko V.V. Positive and Negative Connotation of Phraseological Units with a Colour Component (the Case Study of the English Language) // Филология: научные исследования. 2018. № 4. С. 352 - 358.
- Rousseau R.-L. Le langage des couleurs. St Jean de Braye: Dangles, 1980.
- Wittgenstein L. Remarks on color. Berkeley: University of California Press, 1977.