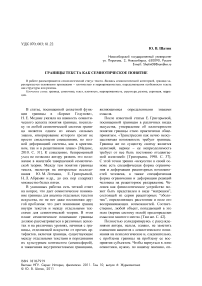Границы текста как семиотическое понятие
Автор: Шатин Юрий Васильевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискурс СМИ
Статья в выпуске: 6 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В работе рассматривается семиологический статус текста. Являясь семиологической категорией, граница характеризуется основными признаками - плотностью и маркированностью, определяющими особенности текста как структуры или ризомы.
Граница, семиотика, текст, плотность, маркированность, структура, резома, скрипция, наррация
Короткий адрес: https://sciup.org/14737544
IDR: 14737544 | УДК: 070;
Текст научной статьи Границы текста как семиотическое понятие
В статье, посвященной сюжетной функции границы в «Борисе Годунове», Н. Е. Меднис указала на важность семиотического аспекта понятия границы, поскольку «в любой семиотической системе граница является одним из самых сильных знаков, игнорирование которого грозит не просто смысловыми смещениями, но полной деформацией системы, как в креативном, так и в рецептивном плане» [Меднис, 2010. С. 31]. К сожалению, безвременный уход не позволил автору развить это положение в масштабе завершенной семиотической теории. Между тем понятия границы текста, несмотря на интересные исследования Ю. М. Лотмана, Е. Григорьевой, Н. Л. Абрамян и др., до сих пор содержат множество белых пятен.
В указанных работах есть четкий ответ на вопрос, что дает семиотическое понимание границы для анализа отдельных текстов искусства, но не нет даже постановки другой проблемы: что дает понимание границ внутри текстов и между отдельными текстами для семиотической теории. В этом плане семиотическое понимание границы должно рассматриваться в различных аспектах и на различных уровнях, начиная с границы, отделяющей искусство от прочих артефактов, включая границы, существующие между отдельными текстами и породившим их культурным контекстом (семиосферой), и заканчивая внутритекстовыми границами, являющимися определенными знаками смысла.
После известной статьи Е. Григорьевой, посвященной границам в различных видах искусства, утверждение об иллюзорности понятия границы стало практически общепринятым. «Трансгрессия как вечно неосуществимая возможность требует границы. Граница же по существу своему является иллюзией, вернее – ее непреодолимость требует от нее быть постоянно отодвигаемой иллюзией» [Григорьева, 1998. С. 37]. С этой точки зрения «искусство в своей основе есть специфическая форма ограничения и деформации рецепторных возможностей человека, а также специфическая форма ограничения и деформации реакций человека на рецепторное раздражение. Человек как физиологическое устройство может быть представлен в виде “матрешки”, состоящей из серии рецепторных “оболочек”, определяющих расстояние и поле его воспринимающих возможностей. Соответственно, любой объект, попадающий в это поле (вернее систему полей) предопределен смыслом занятого места» [Там же. С. 42].
Полностью солидаризируясь с рассуждениями автора, нельзя, однако, не заметить смещения акцентов с семиотического понимания на психологическое и, следовательно, с проблемы границы на проблему ее восприятия субъектом. Чтобы вернуться в лоно семиотики, нужно, по нашему мнению, оп-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 6: Журналистика © Ю. В. Шатин, 2011
ределить, между чем и чем в самом общем смысле является граница как семиотическая категория. По всей видимости, семиотическое (а не феноменологическое) понятие границы имеет место только в случае предположения, согласно которому она отделяет текст от внеположенного ему мира. Внепо-ложенный тексту мир асистемен, он лишь притворяется системным, хотя его отдельные фрагменты и могут описываться как системы. Теорема Геделя является следствием утверждения несистемности окружающего нас мира, любое описание которого будет либо неполным, либо противоречивым. Таким образом, сами описания, не претендующие одновременно на полноту и непротиворечивость, могут рассматриваться как тексты. В этом смысле тексты метафорически можно уподобить сгусткам более или менее твердого вещества, расположенного в разряженном пространстве Вселенной. В пределе все феномены, воспринимаемые нашим сознанием, делятся на тексты и не-тексты, отделенные друг от друга границами.
Вместе с тем само наличие границ не исключает того, что отношения текстов и не-текстов могут быть различными. Наиболее общим различителем здесь выступает оппозиция изоморфизма и гомоморфизма. Примерами изоморфных текстов являются тексты сакральные, а также разного рода летописи и хронографы. В этом случае границы текста и внеположенного ему мира, если и не совпадают полностью, то стремятся к такому совпадению. Начальной границей такого текста является сотворение мира, т. е. предполагается, что до его сотворения существовала лишь пустота («ничего не существовало»), а конечная граница практически отсутствует, поскольку ее потенциальный конец связывается с концом света и тем самым лишает создателя возможности скрипции.
Не менее важным оказывается и другое обстоятельство. Чем более изоморфен текст, тем в большей мере он оказывается перформативным, ибо информация, заключенная в нем, рассматривается как непосредственное или опосредованное воздействие на ход будущих событий, лежащих за пределами текста («ход веков подобен притче»). Сама история воспринимается как способ выявления некоей цели. События хроник и исторических сочинений совершаются «не просто так», но как обнаружение скрытой телеологии внеположенного мира. Еще ярче эта перформативность проявляется в магических текстах, где сам звуковой и словесный ряд используется для производства определенных событий или действий.
Примером предельно гомоморфного текста может служить «Бесконечный тупик» Галковского. Иными словами, гомоморфный текст - это до бесконечности самопо-рождающийся текст, в котором каждый последующий фрагмент служит комментарием к предшествующему комментарию. Такой текст имеет начальную границу, но не имеет конечной. На начальных стадиях развития литературного творчества эмбрионами гомоморфных текстов выступают так называемые бесконечки, типа «у попа была собака...» Парадоксальным образом и изоморфные, и гомоморфные тексты не предполагают конца, но интенции бесконечности в обоих случаях противоположны: в первом случае - это незавершенность внешнего мира тексту, во втором - сознательная инерция, задаваемая автором.
Изоморфизм и гомоморфизм - предельные полюса, на которых и выявляется семиотическая природа границы. Обычное предсемиотическое понимание границы связано с представлением о ней как о способе отделить один знак от другого. При семиотическом понимании сама граница выступает как знак, указывающий на переход от внесистемного состояния мира к его системному описанию. Реально в семиосфере абсолютное большинство текстов располагается между двумя полюсами, тяготея к одному из них. В таком случае в них можно наблюдать обе границы - начало и конец. Именно благодаря началу и концу граница как семиотический знак получает определенные качественные характеристики, главными из которых являются плотность и маркированность. Плотность не следует путать с маркированностью, ибо первая характеризуется мерой проницаемости, т. е. способностью пропускать или не пропускать сигналы внешнего мира. Маркированность же - мера легитимности границ по отношению к внутренней логике текста или, иными словами, степень формальной выраженности начала и конца.
Так, например, границы текста «Евгения Онегина» обладают минимальной плотностью, благодаря чему в его структуру сво- бодно вплетаются куски вымышленного повествования, связанные с внеположенным тексту миром. Главный герой пушкинского романа в течение одного дня встречается у Talon с Кавериным, видит на сцене Истомину, а позднее встречается на именинах Татьяны с двоюродным братом автора, героем «Опасного соседа» В. Л. Пушкина. Ленский перед дуэлью читает неоконченные стихи «в лирическом чаду, как Дельвиг пьяный на пиру». Не увеличивая число примеров, можно заметить, что сигналы затекстового мира свободно вводятся в сферу повествования, а сами границы по отношению к внешнему миру оказываются достаточно проницаемыми.
Напротив, в текстах чинарей знаки внешнего мира, попадая в текст, принципиально деформируются ровно до такой степени, которая уже не позволяет им выступать атрибутами внеположенной тексту действительности: «Увы, стоял плачевный стул, / на стуле том сидел аул», «больной, который стал волной», или
Жили были в Ангаре
Три девицы на горе.
Звали первую Светло,
А вторую Помело,
Третьей прозвище Татьяна, Так как дочка капитана.
Жили-были, а потом
Я из них построил дом.
(А. Введенский «Ответ богов»)
Согласно принципу цисфинизма текст абсолютен по отношению к миру, поскольку имеет совершенно отличную от него денотацию и референцию. Этим цисфинизм, в частности, отличается от паралогических построений «Алисы в стране чудес». Денотаты страны чудес противоположны денотатам внешнего мира, но благодаря тому, что главная героиня никогда не теряет связи с логикой здравого смысла в повествовании создается строгий референциальный порядок. Напротив, героям Хармса или Введенского никакая потеря такой связи не грозит, ибо внешний мир оказывается непроницаемым для границ текста. При этом «речь, свободная от логических русел, бежит по новым путям, разграниченная от других речей. Грани речи блестят немного ярче, чтобы видно было, где конец и где начало, а то мы совсем бы потерялись. Эти грани, как ветерки, летят в пустую строку – трубу. Труба начинает звучать, и мы слышим рифму» [Хармс, 1997. С. 299].
В данном случае важно отметить, что задаваемые текстом границы в системе цис-финизма растекаются в оба конца. По отношению к внешнему миру текст не только бесконечен, но и безначален. Подобно капле жидкости, он растекается по поверхности в разные стороны, подчиняясь собственным внутренним интенциям. В тексте А. Введенского «Потец» весь сюжет строится на выяснении значения этого слова, однако в финале выясняется, что значение было известно героям еще до начала сюжета. «Потец – это холодный пот, выступающий на лбу умершего. Это роса смерти, вот что такое потец. Господи, могли бы сказать сыновья, если бы они могли. Ведь это мы уже знали заранее» [Введенский, 1993. С. 195].
Если плотность границ устанавливает отношения текста к внеположенному миру, то маркированность регулирует связи внутри самого текста и в самом общем виде совпадает с понятиями открытой и закрытой формы, о которой в свое время писал Г. Вельфлин: «Замкнутым мы называем изображение, которое с помощью большего или меньшего количества тектонических средств превращает картину в явление, ограниченное в себе самом, во всех своих частях объясняющееся собой самим, тогда как стиль “открытой” формы, наоборот, всюду выводит глаз за пределы картины. Желает показаться безграничным, хотя в нем всегда содержится скрытое ограничение, которое одно только и обусловливает возможность замкнутости (законченности) в эстетическом смысле» [Вельфлин, 1994. С. 216].
В случае сильной маркированности в границах текста четко выделяются как его абсолютное начало, так и конец. В «Отцах и детях», например, началом повествования становится появление Базарова в усадьбе Кирсановых в июне, а концом – смерть Базарова в последних числах августа. Со смертью Базарова повествовательный интерес уничтожается, все функции рассказывания передаются автору, который с высоты птичьего полета представляет жизнь других героев, утративших потенции к активному действию. Напротив, художественная структура «Войны и мира» обладает слабой маркированностью. Первым персонажем, с которым знакомит нас Толстой, оказывается Анна Павловна Шерер, бесследно исчезающая из повествования в середине произведения без каких-либо объяснений со стороны автора. Последними персонажами оказываются Николенька Болконский и его гувернер, о которых мы также больше ничего не узнаем. Видимо, неслучайно М. Н. Катков, первым опубликовавший «Войну и мир» в «Русском вестнике», специально предупреждал читателя, что продолжения не будет. В отношении «Отцов и детей» такое предупреждение было бы излишним.
Таким образом, плотность и маркированность принадлежат к различным уровням текстостроения. Если плотность есть явление скрипции, то маркированность границ относится к области наррации. Понимая границу текста семиотически, т. е. не как линию, разделяющую знаки и не-знаки, но как самостоятельный знак, мы можем увидеть в маркированности важную скрытую оппозицию. Как справедливо заметил Ж. Делез, «знак – это действительно эффект, но эффект двусторонний – первый аспект в качестве знака выражает продуктивное нарушение симметрии; второй стремится его аннулировать» [1998. С. 35]. Различие замкнутой и открытой формы не в последнюю очередь обусловлено и разной степенью маркированности границ. В пределе замкнутая форма создает симметричный мир, лишенный внутренних противоречий, но исключающий универсальность, открытая форма, напротив, разрушает симметричность и тем самым заявляет о своих претензиях на универсальность. Хорошо сделанная драматургия Э. Скриба принципиально антонимична «плохо скроенным» пьесам А. П. Чехова. Вот почему к финалу «Стакана воды» нечего добавить, тогда как финал «Чайки» настойчиво взывает к продолжению не только в виде акунинского текста, но и в форме различных режиссерских интерпретаций.
Однако нарративный смысл маркированности границ не сводится к особенностям экспозиции и развязки. Всякий раз эта маркированность определяет конфигурацию внутритекстовых границ и их подвижность. Известная жесткость в построениях ранних структуралистов характеризовалась желанием увидеть в каждом художественном тек- сте структуру. Между тем каждый текст не только реализует принципы структурной модели, но и активно преодолевает ее. Это обстоятельство привело к тому, что в 1976 г. Ж. Делез и Ф. Гваттари ввели в научный оборот понятие ризомы, определив ее как неструктурный и нелинейный способ организации текста, оставляющий возможность для самофигурирования и являющийся, таким образом, автохтонной по отношению к языку, идеологии или психологии автора и читателя. По мнению авторов, ризома есть «семиологическое звено как клубень, в котором спрессованы самые разнообразные виды деятельности – лингвистической, перцептивной, миметической, жестикуляционной, познавательной; самих по себе языка, его универсальности не существует, мы видим лишь состязание диалектов, говоров, жаргонов, специальных языков, которые, словно крысы, извиваются одна поверх другой» [Можейко, 2001. С. 657].
Характеризуя особенности ризомы, У. Эко заметил, что она «так устроена, что в ней каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии. Нет выхода. Потенциально такая структура безгранична. Пространство догадки – это пространство ризомы» [Эко, 2003. С. 63].
Важнейшим моментом, отличающим ризому от структуры, является не только отсутствие общего генерализирующего кода (так называемой авторской модели мира), но и возможность смысловых разрывов между отдельными частями текста. Так, в романах М. Шишкина «Взятие Измаила» и «Венерин волос» повествование не только разорвано, но калейдоскопично: место каждого отдельно взятого фрагмента текста оказывается случайным и легко может быть перенесено на другую территорию текстового пространства. Именно разнообразие формообразований текстов в эпоху модерна и постмодерна делает возможным описывать внутиртекстовую границу либо как логоцентрическую (например, при определении события Ю. М. Лотманом как пересечения границы семантического поля), либо синергетическую, создающую нонфинальность и разрушающую стабильность повествования.
Вместе с тем понятие границы может терять свой терминологический смысл и выступать как метафора. Такая метафора, как правило, играет сюжетообразующую роль, благодаря которой происходят значимые изменения в положении действующих лиц. В таком случае пересечение границы в ту или иную сторону всегда получает повышенный знаковый смысл. Так, отъезд героев русской литературы за границу в XIX в. носит финалистский характер: фабула никогда не начинается отъездом (в отличие от траве-лога), но почти всегда им заканчивается. Уезжая за границу, герой как бы проваливается в пустоту, находящуюся за пределами текста. Иногда, хотя далеко не всегда, сообщается о его смерти, но без указания каких-либо подробностей (Сильвио в «Выстреле», Рудин у Тургенева, Печорин в «Герое нашего времени» и др.).
Во всех случаях отъезд за границу – пересечение семантического поля, дающий мощный выход сюжетной энергии. Русская классическая литература усиливает эту энергетику благодаря тому, что по другую сторону границы оказывается не некоторый событийный ряд, но Ничто, многократно умножающее активность читательских стратегий [Шатин,1999. С. 392–396]. Деконструкцией сюжетной метафоры отъезда за границу в литературе XX в. становится мотив возвращения из-за границы как попадание в пустоту, особенно характерный для творчества В. Набокова (исчезновение главного героя в «Подвиге» или исчезновение Лолиты в романе «Взгляни на арлекинов»).
Более частным случаем оказывается отъезд в Америку, являющийся метафорой самоубийства героя (Свидригайлов в «Преступлении и наказании» или Треплев в «Чайке»). Данный случай также представляет собой деконструкцию известного мотива из романа Чернышевского «Что делать?». Этот мотив интересен еще и тем, что мнимое самоубийство Лопухова и последующий отъезд в Америку связан с другой метафорой, в основе которой лежит инициация. Герои уезжают в Америку либо для того, чтобы навечно исчезнуть, либо для того, чтобы, как птица Феникс, предстать в новом качестве (аналогично путешествию в царство мертвых). Как известно, спустя несколько лет Лопухов появляется новым человеком – американцем, аболиционистом Чарльзом Бьюмонтом, раскрывая перед Кирсановым и Верой Павловной историю мнимого самоубийства. Мотив пребывания за границей как процесс инициации играет важную роль в конструировании сюжетов русской литературы (князь Мышкин в «Идиоте», Литвинов в «Дыме»). Во всех случаях общим лейтмотивом становится сюжетная метафора заграницы как пустого, бесцельного пространства. Недаром в заключительной фразе «Идиота» генеральша Епанчина произносит сакраментальное суждение: «И все это, и вся эта заграница, одна фантазия…».
Итак, рассмотрев границу текста как семиотическое понятие, мы показали, что, кроме очевидной многозначности, проблема содержит и иные аспекты. Оказалось, что категория «граница текста» имплицитно включает два разных подхода: чем текст является по отношению к границе и чем граница является по отношению к тексту. Второй подход, как нам показалось, обнаруживает больше белых пятен в сравнении с первым. Здесь до создания полновесной семиотической теории остается больше вопросов, чем ответов. Тем не менее представляется, что уже сегодня можно говорить о границе как о полноценной семиотической категории, обладающей, помимо синтактического, и двумя другими измерениями – семантикой и прагматикой.
Естественно, при выходе за пределы чисто художественных текстов в смежные типы, например в публицистику, мы должны учитывать специфику, которая должна стать предметом дополнительного исследования.
TEXT BORDERS AS A SEMIOTIC CONCEPT