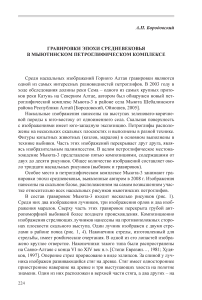Гравировки эпохи средневековья в Мыютинском петроглифическом комплексе
Автор: Бородовский А.П.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XV, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521521
IDR: 14521521
Текст статьи Гравировки эпохи средневековья в Мыютинском петроглифическом комплексе
Среди наскальных изображений Горного Алтая гравировки являются одной из самых интересных разновидностей петроглифов. В 2003 году в ходе обследования долины реки Сема – одного из самых крупных притоков реки Катунь на Северном Алтае, автором был обнаружен новый петроглифический комплекс Мыюта-3 в районе села Мыюта Шебалинского района Республики Алтай [Бородовский, Ойношев, 2005].
Наскальные изображения нанесены на выступах зеленовато-коричневой породы к юго-востоку от одноименного села. Скальная поверхность с изображениями имеет юго-западную экспозицию. Петроглифы расположены на нескольких скальных плоскостях и выполнены в разной технике. Фигуры копытных животных (козлов, маралов) в основном выполнены в технике выбивки. Часть этих изображений перекрывает друг друга, являясь изобразительным палимпсестом. В целом петроглифическое местонахождение Мыюта-3 представлено пятью композициями, содержащими от двух до десяти рисунков. Общее количество изображений составляет около тридцати наскальных рисунков (выбивок и гравировок).
Особое место в петроглифическом комплексе Мыюта-3 занимают гравировки эпохи средневековья, выявленные автором в 2008 г. Изображения нанесены на скальном блоке, расположенном на самом возвышенном участке относительно всех наскальных рисунков мыютинских петроглифов.
В состав гравировок Мыюта-3 входит несколько рисунков (рис. 1). Среди них два изображения лучников, три изображения орлов и два изображения маралов. Сверху часть этих гравировок перекрыта грубой антропоморфной выбивкой более позднего происхождения. Композиционно изображения стреляющих лучников нанесены на противоположных сторонах плоскости скального выступа. Один лучник изображен с двумя стрелами в районе пояса (рис. 1, 4 ). Наконечник стрелы, изготовленный для стрельбы, имеет ромбические очертания. В одной из его лопастей изображено круглое отверстие. Наконечники такого типа были распространены на Саяно-Алтаяе с конца VI по ХIV век н.э. [Степи Евразии…, 1 981; Х удя ков, 1997]. Оперение стрел прорисовано в виде эллипсов. За спиной у лучника изображен развивающийся стяг на древке. Стяг имеет одностороннее приостренное навершие на древке и три выступающих хвоста на полотне знамени. Один из них расположен в верхней части стяга, а два других – на
Рис. 1. Гравировки древнетюркского времени в Мыютинском петроглифическом комплексе.
1 – изображение лучника; 2 – изображение человека и марала; 3 – изображение орлов; 4 – изображение лучника с знаменем.
его нижнем крае. Среди петроглифов р. Бураты в Чуйской степи известно два отдельных изображения стягов на древке, которые интерпретируются как копья со знаменами [Кубарев, 2008]. Отсутствие на мыютинской гравировке изображения втока и двухстороннего навершия не позволяют столь однозначно интерпретировать его как копье со стягом. Изображения пеших лучников со стягами (знаменами) за спиной, близкие к мыютинско-му, выявлены среди граффити древнетюркского времени на петроглифическом комплексе Кургак в Чуйской степи [Кубарев, 2004].
Второй лучник изображен с натянутым луком (рис.1, 1). В районе пояса, как и у первого лучника, у него изображена стрела с наконечником ромбического типа без оперения. Одна из его рук нарисована согнутой в локте, натягивающей тетиву. Плечи у луков на изображениях лучников симметричны и выгнуты наружу. Общие размеры луков на гравировках составляют почти половину от общей высоты фигур лучников. Наличие стрел в районе пояса лучников (рис. 1, 1, 4) соответствует одному из спо- собов ношения стрел на поясе для удобства и скорострельности стрельбы. На Горном Алтае гравировки пеших лучников с изображением стрел на поясе можно встретить среди раннесредневековых изображений Каракола [Соёнов, 2005], Калбак-Таша [Соёнов, 2005] Кургака [Кубарев Г.В, Кубарев В.Д, 2001] и Цаган-Салаа IV в Монголии [Кубарев, Цэвендорж, 1996]. Аналогичное расположение стрел известно на средневековых европейских изображениях ХIII века (Библия Мациевского и Рутландский псалтырь), а так же у японских конных лучников [Курэ, 2007].
Между лучниками мыютинских гравировок располагается фигура марала с стрелой в районе гортани (рис. 1, 2 ). Она аналогична изображениям стрел у двух лучников (ромбический наконечник и эллипсоидное оперение). Тело животного заштриховано горизонтальными (шея) и вертикальными (туловище) линиями, вероятно, изображающими шерсть животного. Перед мордой оленя изображена фигура человека меньшего размера, чем лучники. Эта композиция мыютинских петроглифов имеет определенные аналогии с гравировками Калбак-Таша [Соёнов, 2005].
В центральной части гравировки, ниже антропоморфных изображений и рисунков копытных животных, нанесены две фигуры орлов в геральдической композиции (рис. 1, 3 ). Аналогии этой композиции распространены в металлопластике Западной Сибири вплоть до эпохи позднего средневековья [Молодин, 1992]. Над гравировками двух орлов нанесен современный рисунок головы птицы, выполненный в реалистичной манере. Кроме стиля, это изображение отличается отсутствием патинизации линий изображения.
В целом вся мыютинская гравировка эпохи средневековья представляет охотничий сюжет. Такие сцены охоты характерны для древнетюркской наскальной изобразительной традиции [Бородовский, 1986] Различные размеры лучников, возможно, так же отражают их расположение во время охоты. Не исключено, что человеческая фигура у головы марала могла соответствовать изображению процесса разделки его туши. Сходное по композиции изображение человеческой фигуры с медведем известно среди гравировок Калбак-Таша [Соёнов, 2005].
Гравировки орлов Мыюты также могут быть связаны с центральноазиатским охотничьим промыслом, в рамках которого ловчие птицы занимали особое место. Возможно, что в мыютинских средневековых гравировках нашла отражение и определенная сезонность охоты. По этнографическим данным из Монгольского Алтая в кочевой среде известно использование ловчих птиц в осеннее-зимний период, начиная с момента установления первого снежного покрова. Волосяной покров, изображенный на марале (рис.1, 2 ), также может быть одним из признаков сезонности охотничьей деятельности, поскольку именно в осенне-зимний период шерсть марала становится максимально длинной и густой, а окостеневшие рога сохраняются с октября по декабрь [Бородовский, 2007].
Гравировки лучников на мыютинских петроглифах вполне можно рассматривать как одни из эталонных для средневековых (древнетюркских) 226
наскальных изображений Горного Алтая. Основанием для этого является детальное воспроизведение конструкции лука, стрел с наконечниками, способов их ношения, а так же знамен.
Выявленные средневековые гравировки Мыюта-3 с изображением охотничьих сюжетов располагаются перед Семинским перевалом, на значительном расстоянии от основных петроглифических местонахождений Горного Алтая. Такая локализация является еще одним аргументом, подтверждающим сложение в этом регионе северной границы центральноазиатской петроглифической традиции [Бородовский, Бородовская, 2008; 2009]. Пространственными признаками этой границы является единичность и рассеянность расположения петроглифических местонахождений на скальных выходах горных хребтов Северного Алтая. К таким местонахождениям относятся петроглифы Чемала, Толгаёка, Татарки, Чичкеши, Бийке, Тоурака, Барагаша, Ануя, Будачихи, Сибирячихи [Кубарев, Маточ-кин, 1992], Теплого ключа [Бородовский, Бородовская 2005], р. Усть-Уба [Кирюшин, Горбунов.., 2007].
Несмотря на немногочисленность этих наскальных изображений Северного Алтая, в сравнении с основными территориями распространения алтайских петроглифов, в них представлено все многообразие способов нанесения изображений (выбивка, гравировка, раскраска), основных образов (копытные животные, антропоморфные персонажи), сюжетов (охотничьи сцены), знаков и рунических надписей, характерных для центально-азиатской петроглифической традиции.