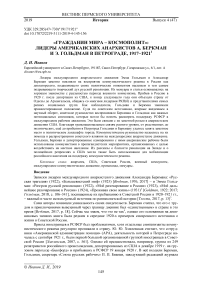"Гражданин мира - космополит": лидеры американских анархистов А. Беркман и Э. Гольдман в Петрограде, 1917-1921
Автор: Иванов Дмитрий Игоревич
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Практики и смыслы интернационализма: к столетию основания коминтерна
Статья в выпуске: 4 (47), 2019 года.
Бесплатный доступ
Лидеры международного анархистского движения Эмма Гольдман и Александр Беркман заметно повлияли на восприятие коммунистического режима в России как диктаторского, подавляющего своих политических оппонентов насилием и тем самым подрывающего творческий дух русской революции. Их мемуары и статьи основывались на хорошем знакомстве с реальностью периода военного коммунизма. Прибыв в Россию в 1920 г. после депортации из США, к концу следующего года они объехали страну от Одессы до Архангельска, общаясь со многими лидерами РКП(б) и представителями самых разных социальных групп. Как наблюдатели, Гольдман и Беркман занимали привилегированное положение. Судя по советским источникам, впервые введенным в научный оборот, советское руководство воспринимало Беркмана и Гольдман как важных потенциальных союзников, которые могли бы помочь расширить поддержку РСФСР в международном рабочем движении. Это было связано с их заметной ролью в анархистском движении США. Благодаря транснациональным связям разного уровня, от родственных до политических, ещѐ до прибытия в Петроград Гольдман и Беркману удалось занять заметное место в политическом ландшафте города. Коммунистическое руководство надеялось на их помощь в распространении советского влияния на международное анархистское движение. Гольдман, Беркман и депортированные одновременно с ними американские рабочие были использованы коммунистами в пропагандистских мероприятиях, организованных с целью воздействвать на местное население. Их рассказы о близости революции на Западе и о полицейских репрессиях в США могли также быть использовании для мобилизации российского населения на поддержку коммунистического режима.
Анархизм, сша, советская Россия, военный коммунизм, международное коммунистическое движение, пропаганда, мемуары
Короткий адрес: https://sciup.org/147245262
IDR: 147245262 | УДК: 329.285(47+730)?1917/1921? | DOI: 10.17072/2219-3111-2019-4-145-156
Текст научной статьи "Гражданин мира - космополит": лидеры американских анархистов А. Беркман и Э. Гольдман в Петрограде, 1917-1921
Записки лидеров международного анархистского движения Александра Беркмана: «Русская трагедия» (1922), «Большевистский миф» (1925) [ Berkman , 1976, 2017] – и Эммы Гольдман: «Разгром русской революции» (1922), «Моё разочарование в России» (1923), «Моё дальнейшее разочарование в России» (1924), «Проживая свою жизнь» (1931)2 [ Goldman , 1922; 2017; Гольдман , 2018, с. 106–341], посвященные их пребыванию в Советской России в 1920–1921 гг., – важный и часто используемый источник по раннесоветской истории [ Tsovma , 2017, p. 13]3.
Сами авторы понимали уникальность своих свидетельств. Беркман считал, что его с трудом и приключениями вывезенный через границу дневник был «единственным» в стране в это время [ Berkman , 2017, p. 18]. Сейчас мы знаем, что это не так4, однако его основанная на дневниковых записях книга была редким в середине 1920-х примером синхронного источника о жизни в Советской России.
Приезд иностранцев в РСФСР был проблематичен, хотя отдельные симпатизанты коммунистического режима регулярно проникали в страну. Ю. Ю. Хмелевская считает, что сотрудники «Американской администрации помощи» (АРА), деятельность которой в Петрограде началась с сентября 1921 г., были первой большой организованной группой иностранцев в Советской России [ Хмелевская , 2007, с. 561]. Однако ей предшествовала, например, группа из 249 репатриантов российского происхождения, депортированных из США в декабре 1919 г. на грузовом пароходе «Бьюфорд» и прибывших в РСФСР 19 января 1920 г. В неё входили Беркман, Гольдман, секретарь «Союза русских рабочих» П. П. Бианки, заведующий редакцией журнала
«Набат» А. И. Шнабель и другие участники радикального движения в США [ Avrich et al., 2012, p. 294–302; Engman , 2007, s. 558–589]. Как показал С. В. Журавлев, жившие в Советской России иностранцы обладали специфической «оптикой», позволявшей им увидеть советское общество одновременно со стороны и изнутри [ Журавлев , 2000]. Это относится и к американским репатриантам, которые покинули Российскую империю в конце 1880-х гг. и вполне освоились на новой родине.
Следует отметить, что Беркман и Гольдман были не просто внимательными наблюдателями, старавшимися точно зафиксировать свои впечатления. Бытописательский дар и литературный талант – категории субъективные и дискуссионные. Важно также то, что Гольдман тесно общалась «с высшими политическими чиновниками» [ Чистиков , 2013, с. 76] – так же как Беркман. В период военного коммунизма, когда путешествия по стране были затруднены как из-за катастрофического состояния транспортной системы, так и из-за военнобюрократических ограничений, они довольно много передвигались, посещая столицы, провинциальные города, деревни на севере, юге и в центре страны. Как же анархисты, известные сейчас как непримиримые противники советского режима, оказались в таком привилегированном положении? Какие политические обстоятельства обеспечили им столь широкие возможности?
Чтобы объяснить отношения Беркмана и Гольдман с коммунистическим режимом, авторы исследований об их «советском» периоде используют англоязычные источники, преимущественно их собственные тексты (из недавних работ см., например [ Jacob , 2018; Черненко , 2013; Avrich et al., 2012]). Однако их присутствие в Советской России нашло ограниченное отражение в периодике и архивных документах. Введение этих источников в научный оборот позволит не только с новой стороны посмотреть на советский период во время пребывания в стране Гольдман и Беркмана, но и расширить понимание того, как функционировала политическая система военного коммунизма и какую роль в ней играли интернациональные и транснациональные связи между представителями революционной субкультуры.
Революционная Россия вспоминает Беркмана и Гольдман
Несмотря на то что Беркман отсутствовал в Петербурге более тридцати лет, вспомнили о нём в городе его детства ещё задолго до решения американских властей о его депортации. Репрессии против анархистов в США часто были поводом для протестов в Петрограде в 1917 г. Составленный Беркманом документ с призывом протестовать против обвинений калифорнийских профсоюзных лидеров Т. Муни и У. Биллингса в терроризме привёз в Россию репатриант М. Гранберг. Гранберг передал текст киевским анархистам, которые разослали его в Петроград, Москву и Одессу, после чего последовали протесты5.
Самый шумный протест состоялся в Петрограде. Около 50 анархистов были арестованы солдатами и милиционерами на углу Невского проспекта и Садовой улицы 10 апреля после попытки проведения «враждебной демонстрации» перед американским посольством на Фурштатской улице. Под чёрными флагами петроградские анархисты протестовали не только против казней анархистов, но и против состоявшегося незадолго до того вступления США в мировую войну6. Историки Пол и Карен Авричи считают, что именно из-за протестов в России президент США В. Вильсон попросил в мае 1917 г. губернатора Калифорнии У. Д. Стивенса отложить казнь Муни «ввиду некоторых международных аспектов» [ Avrich et al., 2012, p. 262–263].
С массовым возвращением из США в 1917 г. российских эмигрантов-анархистов американские события продолжили привлекать внимание политизированных масс российской столицы. В сентябре в цирке «Модерн» на Кронверкском проспекте и в Морском манеже в Кронштадте прошли митинги в поддержку арестованных в июне 1917 г. за антивоенную деятельность Гольдман и, как выразилась 22 сентября петроградская анархо-синдикалистская газета «Голос труда», «нашего русского революционера Александра Беркмана». На собравшем 6 тыс. чел. митинге в Петрограде выступали американские журналисты-социалисты Дж. Рид и А.Р. Вильямс, а также недавно вернувшийся в Россию из Нью-Йорка анархо-синдикалист В.С. (Билл) Шатов, иногда выполнявший в США функции телохранителя Беркмана [Rosenstone, 1981, p. 289; Avrich et el., 2012, p. 238–239, 259, 264]. Собрания рабочих, солдат и матросов принимали резолюции в поддержку Беркмана, а в газете кронштадтской организации анархистов Гольдман была описана как «одна из виднейших анархисток Соединенных Штатов»7. Уже после октябрьского переворота, в январе 1918 г., петроградские анархисты угрожали расправой американскому послу Д. Р. Фрэнсису, требуя освобождения Беркмана и Муни [Avrich, 2005, p. 184]. По словам Беркмана, когда народный комиссар иностранных дел Г. В. Чичерин выдавал ему в начале 1920 г. удостоверение, он вспомнил о митинге в одном из петроградских цирков, созванном для протеста против угрожавшего американскому анархисту суда [Berkman, 2017, p. 51–52].
Деятельность Беркмана и Гольдман оказывала и культурное влияние на российских анархистов. Рисунок Роберта Майнора с обложки издававшегося Беркманом в Сан-Франциско журнала «The Blast» («Взрыв») был позже заимствован петроградскими анархистами-коммунистами для своей газеты «Коммуна». На нём изображающая капиталиста жирная свинья в цилиндре и фраке была противопоставлена трупам повешенных рабочих. Хотя типичные для американских пролетариев комбинезоны, не распространившиеся ещё на заводах России, остались и на петроградской обложке, значок доллара с живота «капиталистической свиньи» исчез. Подпись к рисунку «The Golden Rule» («Золотое правило», но можно также перевести как «Власть золота») в «Коммуне» заменили на «Буржуазный порядок»8. Агитационные тексты Беркмана печатались в «Вольном Кронштадте» незадолго до октябрьского переворота и в анархо-синдикалистском журнале «Вольный труд», легально выходившем в советском Петрограде9.
Сам Майнор, ставший в 1920 г. одним из основателей Компартии США, так вспоминал о своём визите в Россию с мая по ноябрь 1918 г.:
«Мы собрались в Москве. Казалось, что Революция была при последнем издыхании. Всюду советские армии отступали, массы впадали в отчаяние, германский рабочий класс не восставал, как мы на то надеялись, и австрийцы тоже; белый террор подымал голову по всей России. Бледная девушка, вернувшаяся в родную страну русско-американская иммигрантка, сжала в руке сводку новостей. "Разослать сотню Александров Беркманов по всей Европе, и история Европы будет другой!" – воскликнула она» [ Minor , 1919, p. 4]. Беркман пользовался завидной репутацией в качестве революционного вождя, как и Гольдман. Британский военный министр У. Черчилль в начале 1920 г. называл её в числе руководителей «всемирного революционного заговора по свержению цивилизации» наряду с Л. Д. Троцким, Б. Куном и Р. Люксембург [ Герварт, Хорн , 2014, с. 78].
Возможно, полезным оказалось родство Беркмана с одним из наиболее уважаемых ветеранов российского революционного движения. М. А. Натансон (Бобров), организатор кружка «чайковцев» и впоследствии один из основателей Партии социалистов-революционеров (ПСР) и Партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР), приходился ему дядей. Насколько известно, лично они не встречались, но во время кампании в поддержку Беркмана в 1917 г. Гольдман передавала через одну из ведущих деятельниц ПСР, Е. К. Брешко-Брешковскую, послание к Натансону с просьбой помочь его «достойному племяннику» [ Avrich et al., 2012, p. 263–264]. Трения между РКП(б) и ПЛСР привели в июле 1918 г. к вооружённым столкновениям в Москве, известным как «левоэсеровский мятеж», и артиллерийской стрельбе в центре Петрограда [ Рабинович , 2008, с. 419–457]. Но Натансон прямого участия в этой борьбе не принял, а осенью 1918 г. перешёл из ПЛСР в Партию революционного коммунизма, выступавшую за сотрудничество с большевиками (Партия левых социалистов-революционеров..., 2015, с. 452–457), [ Леонтьев , 2017, с. 20]. Он остался уважаемым союзником РКП(б), авторитет которого мог поддержать советскую власть. Пол и Карен Авричи пишут, что Натансон «бежал» в Швейцарию, так как был лидером ПЛСР [ Avrich et al., 2012, p. 298]. Однако он получил официальное разрешение на выезд для лечения и к тому же состоял уже в другой партии. После кончины Натансона в 1919 г. некролог, написанный членом исполкома Коминтерна А. И. Балабановой, был помещен в журнале «Коммунистический интернационал»10. И Гольдман, и Беркман с большим уважением высказывались о Балабановой, с которой им удалось довольно часто общаться [ Berkman , 2017, p. 121; Goldman , 2017, p. 50 et pas.].
Можно сказать, что Беркман (и в несколько меньшей степени Гольдман) были заочно знакомы c петроградцами. Некоторые репатрианты, жившие в эмиграции в США, были знакомы с ними лично, например, Л. Д. Троцкий, с которым Беркман познакомился в Нью-Йорке в 1917 г., или Шатов, служивший с февраля 1919 г. до января 1921 г. членом Реввоенсовета VII армии [Berkman, 2017, p. 85; Директивы командования..., 1978, с. 538]. Видные американ- ские революционеры, пользовавшиеся также определённой известностью в России, могли бы иметь политическое влияние.
Американцы и «Boylsheviki»
Коммунистам удалось заочно заручиться поддержкой американских революционеров. И Гольдман, и Беркман ещё в США выражали в печати симпатии к «Boylsheviki» (так в оригинале. – Д. И. ). В опубликованной в феврале 1918 г. брошюре Гольдман сообщала, что октябрьский переворот воплотил в себе бакунинский «анархо-революционный» порыв, в то время как анархисты П. А. Кропоткин или В. А. Черкезов проявили в 1917 г. консерватизм, который ей напомнил скорее о марксистской постепеновщине. Эти ветераны революционного движения 1870-х к периоду русской революции подошли с весьма умеренными по меркам тогдашнего революционного движения взглядами. Гольдман также подчеркнула «важность Ленина, Троцкого и других героических фигур, которые внушают всему миру благоговение своими личными качествами, пророческой проницательностью и глубоким революционным духом». Даже в Советской России такая похвала тогда доставалась «вождям» лишь посмертно [ Иванов , 2018, с. 13–14]. Но защита Ленина и Троцкого от обвинений в шпионаже на Германию была для Гольдман важна не только сама по себе, но и в связи с кампанией против американских радикалов, развернувшейся со вступлением США в мировую войну под флагом борьбы с «агентами кайзера». И именно отсутствие у «Boylsheviki» декларируемых империалистических целей являлось лучшим доказательством их «свободнических [libertarian] планов» [ Goldman , 1918, p. 5, 9 et pas.].
И Гольдман, и Беркман были настроены весьма позитивно по отношению к коммунистическому режиму [ Nowlin, 1976, p. VII; Jacob , 2018, p. 188–190; Avrich et al., 2012, p. 298–300]. В брошюре «Депортация, её значение и угроза», написанной в последние дни их пребывания в США и опубликованной уже после высылки, Беркман и Гольдман также с симпатией отзываются о российском коммунистическом режиме – как о «путеводной звезде для всех угнетённых и обездоленных всего мира». Главным для них, однако, являлось обличение репрессий против радикалов в США, начатых властями. «Америка на пороге Социальной Революции», – утверждали Беркман и Гольдман, и пример России казался крайне опасен для капиталистических хозяев страны [ Berkman, Goldman, 1919, p. 11, 15–16 et pas.].
В США и Финляндии, в которую депортированные на «Бьюфорде» американцы прибыли 9 января 1920 г., их считали коммунистами. По официальным данным, однако, 199 из депортированных были арестованы в ноябре 1919 г. во время облав на членов тяготевшего к анархизму Союза русских рабочих; 43 человека являлись арестованными ранее анархистами российского происхождения (в эту группу, очевидно, входили и Гольдман с Беркманом); ещё семерых высылали за совершение уголовных преступлений [ Avrich , 1995, p. 318; Engman , 2007, s. 564]. Разница между анархистами-коммунистами (такими как Беркман) или коммунистами-марксистами, исходя из практических интересов политической полиции западных стран, вряд ли была велика. Но в большевики депортируемых заранее записывала и петроградская пресса. На первой полосе новогоднего номера петроградской «Красной газеты», сразу под поздравлением с «годом окончательной победы», была помещена посвященная пассажирам «Бьюфорда» заметка, в которой сообщалось, что «[а]мериканская буржуазия из опасения перед распространением большевизма высылает из страны большевиков»11.
Сразу после прибытия американские эмигранты оказались в центре пропагандистской кампании. Первый из митингов состоялся на пограничной станции Белоостров. Эмигрантов, которых «Известия» назвали «наши сородичи, долгие годы прожившие за океаном», войска Карельского боевого участка торжественно встретили с «громкими криками "ура!"» и оркестром, исполнявшим «Интернационал». Если Беркман писал о том, что секретарь «Союза русских рабочих» Бианки прямо там пригрозил ответить «войной» на любые попытки большевиков подавить деятельность анархистов, то корреспондент петроградского официоза упомянул лишь «[с]очувственную овацию», устроенную красноармейцами-пограничниками прибывшим 249 «коммунистам», и подробно пересказал их сообщения о просоветской кампании в США и о последовавших за ней репрессиях [ Berkman , 2017, p. 31–33]12.
Очень скоро эмигрантов из Америки увидели и массы петроградцев. Они прибыли накануне одного из важнейших праздников революционного календаря – годовщины Кровавого воскресенья, 22 января. Для «почетных гостей» – репатриантов приготовили специальные места перед трибуной на площади Урицкого (Дворцовой). Эмигранты приняли участие в «торжественной процессии» и выступили на митинге в Смольнинском районе, где также рассказали о репрессиях, которым подверглись за просоветскую деятельность. Смольнинский район был выбран, очевидно, из-за того, что временным общежитием для большинства эмигрантов – до того, как они устроились в Петрограде или отправились на родину, – служил Смольный13.
Впрочем, эта пропагандистская деятельность имела довольно ограниченный масштаб, возможно, из-за анархистских симпатий большинства эмигрантов. В центральном органе РКП(б) мы нашли лишь одно упоминание о депортированных на «Бьюфорде». «Приехавший из Америки товарищ», имя которого не было названо, сообщил агентству РОСТА данные о политической жизни США в ноябре 1919 г. – о съезде горнорабочих и сотнях просоветских митингов по всей стране ко второй годовщине Октябрьской революции14.
Репатрианты служили в первую очередь ресурсом для пропаганды, направленной на советское население. Рассказы об ужасах американских тюрем, о казнях и избиениях рабочих, их жён и детей, а также о брожении, обещающем распространение мировой революции на Северную Америку, могли внушить переживающим военный коммунизм людям надежду на близкое избавление, а также страх перед возвращением демократического буржуазного режима.
Деятельность в Советской России
«Старые эмигранты» Беркман и Гольдман, единственные, кого «Красная газета» назвала по имени, обратились в иностранный отдел Комиссариата внутренних дел Союза коммун Северной области за разрешением на проживание в РСФСР15. Хотя Александр Осипович Беркман отрекомендовался в анкете «гражданин мiра – космополит», ему всё равно нужно было выполнить предписанные для «иностранно-подданного» формальности. Формулу «гражданин мира» использовал в 1917 г. при отказе от регистрации для призыва в армию нью-йоркский анархист Луис Крамер. Беркман и Крамер вместе подали иск в Верховный суд США, который в январе 1918 г. рассматривал вопрос о конституционности закона о призыве, и оба затем находились в заключении в федеральной тюрьме в Атланте [ Avrich et al., 2012, p. 279–280]. Анархисты часто воспринимали себя в качестве космополитов [ Bantman, Altena , 2017, p. 15]. Таким образом, короткая запись в анкете была продуктом культурных влияний, испытанных Беркманом в анархистском движении.
Но ни он, ни Эмма Абрамовна Гольдман не стали гражданами рабоче-крестьянского государства, что, возможно, облегчило им впоследствии расставание с Россией. В заявлении на получение вида на жительство за обоих поручился анархист М. Н. Орадовский, вернувшийся в Петроград из Нью-Йорка секретарь Совета рабочих депутатов Соединенных Штатов и Канады. В этой организации, созданной в 1919 г., сотрудничали эмигранты из России – анархисты, большевики, эсеры [ Avrich , 1995, p. 338–339, 367]. Одновременно с прибытием Гольдман и Беркмана, в январе 1920 г., в Петрограде был основан Музей революции, сотрудниками которого они и стали. Эта работа, хотя и не позволяла им прямо влиять на принятие решений и не обеспечивала значительного общественного положения, тем не менее открывала перед ними большие коммуникационные возможности. Американский издатель А. Бони вспоминал, что встреченные им в Москве в 1920 г. Беркман и Гольдман были «очень взбудоражены» перспективой получения специального поезда для сбора экспонатов [ Avrich , 1995, p. 65]. Они смогли объехать значительную часть страны и повстречаться с непосредственными участниками революционных событий. Это дало им возможность собрать множество документов, которые были использованы в их книгах. Впрочем, о важности Музея революции как агитационнопропагандистского проекта может свидетельствовать то, что примерно в то время, когда там работали американские анархисты, на 1119 экспонатов приходилось 37 чел. квалифицированного персонала. Для сравнения: у соседствовавшего с ним Государственного Эрмитажа на 1,5 млн. экспонатов приходилось лишь 147 квалифицированных работников. По количеству квалифицированного персонала Музей революции был на третьем месте в городе16.
Одним из основателей Музея революции был историк российского освободительного движения, редактор журнала «Былое» П. Е. Щёголев. На открытии музея в январе 1920 г. он выступал наряду с лидером петроградских коммунистов Г. Е. Зиновьевым17. В июне 1921 г. Щёголев стал также одним из основателей Петроградского комитета по увековечению памяти
П. А. Кропоткина. Секретарём аналогичного московского комитета был Беркман. По предложению Щёголева был выпущен посвящённый памяти Кропоткина сборник, содержание которого частично попало в специальный выпуск «Былого» [Хроника // Известия ВЦИК. 1921. 23 февр.; Гольдман , 1921 (1922), с. 3; К истории образования Петроградского комитета по увековечении памяти П. А. Кропоткина // Там же. С. 16–18]. Среди материалов, предоставленных Всероссийским общественным комитетом по увековечению памяти П. А. Кропоткина, была статья Э. А. Гольдман, «видной деятельницы и единомышленнице» (так в оригинале; опечатка одинаковая в обоих изданиях. – Д. И. ) покойного ветерана анархистского движения. В ней, помимо прочего, были описаны похороны Кропоткина, но отсутствовали некоторые важные детали, которые Гольдман потом приводила в своих записках. Например, выпущенные из тюрьмы для участия в похоронах анархисты не упомянуты [ Гольдман , 2018, с. 273–275]. Она подчёркивала отрицательное отношение Кропоткина к интервенции западных стран в Россию и его призывы к европейским рабочим выступать в поддержку мира; эти темы были важными для советской пропаганды, направленной за границу России. Были в статье и выдержки из письма Кропоткина «старому другу» Александру – вероятно, Беркману [ Гольдман , 1921а; Гольдман , 1921b]. И журнал, и сборник, очевидно, пошли в набор в середине ноября 1921 г., когда Гольдман ещё была в России, и вышли к февралю 1922 г., к первой годовщине кончины Кропоткина, когда Гольдман была уже за границей [Предисловие, 1921, с. 3]. Первый же текст, который они с Беркманом опубликовали после отъезда из Советской России, – яростный протест против расстрелов анархистов [ Berkman, Goldman, 1922]. Этот текст не сразу дошёл до Советской России, но дальнейшее сотрудничество с российскими издателями стало для них невозможным.
Легальное петроградско-московское анархо-синдикалистское книгоиздательство «Голос труда» в 1921 г. выпустило брошюру с переводами избранных статей Гольдман. Они составляли первую часть её вышедшей в США в 1910 г. книги «Анархизм и другие статьи»; естественно, ни одна из них не касалась послереволюционной России [ Гольдман , 1921; Goldman , 1910]. В планах «Голоса труда» значилась также книга Беркмана «Воспоминания анархиста» [ Грав , 1920]. Очевидно, имелись в виду опубликованные в 1912 г. «Тюремные воспоминания анархиста» [ Berkman , 1999], в которых он описал свой четырнадцатилетний опыт пребывания в американской каторжной тюрьме, последовавшего за попыткой перенести на почву США методы русских революционеров и европейских анархистов. В 1892 г. Беркман отомстил за расстрел рабочих во время стачки, попытавшись убить промышленника Г. К. Фрика. Русское издание записок Беркмана, однако, не состоялось. Типография, редакция и книжная лавка «Голоса труда» были закрыты ВЧК [ Гольдман , 2018, с. 295]. Беркман был достаточно хорошо знаком с главой петроградского отделения Госиздата И. И. Ионовым, шурином Зиновьева. По крайней мере, два бывших политкаторжанина, российский и американский, делили купе во время одной из поездок в Москву [ Berkman , 2017, p. 122]18. Видимо, какое-то время книгу Беркмана предполагалось напечатать в петроградском отделении Государственного издательства. Но в 1921 г. автор забрал оттуда рукопись «Тюремных воспоминаний», заявив после кронштадтского восстания о своём разрыве с большевиками [ Гольдман , 2018, с. 318].
Литературная деятельность не могла, однако, быть основным источником средств существования для эмигрантов. Ещё плывя через Атлантику на «Бьюфорде», Гольдман сообщала родственнице, что «о чтении лекций и писательском труде по крайней мере год не может быть и речи» [ Wexler , 1989, p. 17]. Через год после прибытия в Петроград, когда их сотрудничество с Музеем революции завершилось, А. О. Беркман и Э. А. Гольдман подали заявления в Петротоп, подразделение Совета народного хозяйства Северного района, занимавшееся топливом для Петрограда, с просьбой зачислить их ответственными работниками. В анкете оба указали уровень своего образования как «высшее», хотя Беркман почти закончил гимназию в Ковно, а Гольдман несколько лет училась в реальном училище в Кёнигсберге. Руководитель Петротопа П. Н. Колобушкин практически сразу одобрил их заявления, назначив им жалование по 5100 руб. Беркман был зачислен ответственным организатором по минеральному отделу, отдел ответственного организатора Гольдман не был обозначен19.
Оклад им назначили заметно ниже средней зарплаты петроградских рабочих в январе 1921 г.20 Но помимо величины жалования стоит учитывать другие материальные факторы. Гольдман и Беркман привезли из США собранные родственниками и сторонниками деньги. В отличие от простых пассажиров «Бьюфорда» их не заставили обменять валюту [Гольдман, 2018, с. 251–252; Berkman, 2017, p. 63]. В анкетах «Петротопа» они указали адреса в отеле «Интернационал» («Англетер»), пристанище петроградской верхушки (за год до этого они жили в столь же элитной «Астории» [Wexler, 1989, p. 25]). Скорее всего, должности в Петротопе были фиктивными. Колобушкин, один из лидеров петроградских анархистов-коммунистов, был в числе арестованных в апреле 1917 г. за антивоенный протест21. Беркман называл его главным человеком в Петротопе, без усилий которого Петроград замёрз бы зимой 1919–1920 гг. Рядом с похвалой Колобушкину в записках Беркмана – неодобрительное упоминание о том, что Бианки вступил в РКП(б) и стал ответственным работником [Berkman, 2017, p. 134, 264]22.
Колобушкина вскоре арестовали из-за его участия в анархистском движении, Беркман и Гольдман отошли от сотрудничества с коммунистическими властями. Скорее всего, их «ответственная работа» в Петротопе была формальной, всего лишь одним из многих «мест», на которых ведущие общественную работу деятели должны были числиться в эпоху трудовых армий. Ни Беркман, ни Гольдман в мемуарах не упоминали этого эпизода в своей карьере, который показывает, насколько важным могло быть наличие хотя бы фиктивного места службы в период военного коммунизма.
Заключение
Беркман и Гольдман получили в Советской России относительную свободу передвижений и сравнительно сносные бытовые условия. Это, очевидно, связано с тем, что руководство РКП(б) и Коммунистического интернационала прилагало усилия для расширения поддержки коммунистического режима внутри и вне страны, используя известных лидеров радикального рабочего движения для распространения пропаганды на страны Запада. На первых порах многие анархисты и синдикалисты, их организации сотрудничали с Коминтерном, некоторые из них временно или постоянно переходили на просоветские позиции: Национальная конфедерация труда [ Zoffmann Rodriguez, 2018], Индустриальные рабочие мира23, один из руководителей Баварской советской республики – Э. Мюзам [ Mühsam , 2011]24, бывший бельгийский анархист-индивидуалист В. Л. Кибальчич (Виктор Серж)25.
Вместе с тем поддержкой Беркмана и Гольдман старались заручиться и руководители той части анархистского движения, которая вступила в борьбу с коммунистическими властями: командующий Революционной повстанческой армии Украины Н. И. Махно, конфедерация «Набат». Несмотря на значительный личный риск, такие высокопоставленные деятели, как Г.А. Кузьменко и А. Д. Барон пробирались на контролируемую коммунистами территорию, чтобы постараться убедить американских эмигрантов в необходимости совместных действий [ Гольдман , 2018, с. 208–211, 229–231]. Этого не произошло, однако попытки «перетянуть» их на сторону противников коммунистического режима свидетельствуют о том, что Беркман и Гольдман считались деятелями, которые могут оказать влияние на исход политической борьбы.
Что касается Беркмана и Гольдман, то их «разочарование в России» наступило довольно быстро и стало одним из факторов отхода международного анархистского движения от сотрудничества с коммунистами. Историк Э. Векслер отмечала, что они «могли говорить особенно авторитетно, как уважаемые активисты, которые знали русский и провели в России пару лет, а не пару недель» [ Wexler , 1989, p. 62]. Американский моряк Х. Анидо вспоминал, что он и его товарищи после прочтения разоблачительного материала о коммунистическом режиме в брошюре Гольдман «Разгром русской революции» отказались от плана скопить денег и переехать с собственными инструментами в Советскую Россию [ Avrich , 1995, p. 396]. Правда, одновременно с этим влияние анархистов на массовое рабочее движение стало уменьшаться. Поэтому политический эффект от мемуаров Гольдман и Беркмана оказался не слишком велик, но историки получили ряд интересных источников.
Революционные движения начала ХХ в. носили транснациональный характер, что было вызвано не только «внешними» по отношению к ним факторами (например, политикой государств в сфере миграции), но и интернационалистскими идеологическими установками [ Bant-man, Altena , 2017, p. 7–8, 17]. Из-за этого «The Blast» Беркмана много писал о событиях в далёкой России, а петроградские рабочие голосовали за резолюции в поддержку Тома Муни, ждавшего казни на другом краю земли.
Государственные интересы РСФСР в области внешней политики часто оказывали влияние на привлечение к сотрудничеству тех или иных деятелей. Гольдман и Беркман, разумеется, стали ответственными работниками и жили в отдельных номерах в «Интернационале» не только из уважения Советского государства к их революционным заслугам, но и потому, что эти заслуги можно было конвертировать во влияние на международное рабочее движение в целом. Но личные биографии также оказывали влияние на политические процессы. Увиденное в Советской России не совпало с представлениями Гольдман и Беркмана о революционной этике. Поэтому эффект от попыток привлечь их на сторону РКП(б) оказался тем более негативным из-за того, что в 1920–1921 гг. им предоставили возможность путешествовать, общаться с разными людьми и иметь достаточно времени на общественную деятельности Это сделало Гольдман и Беркмана особенно авторитетными свидетелями российской революции, а их обличения советского режима – особенно убедительными.
Список литературы "Гражданин мира - космополит": лидеры американских анархистов А. Беркман и Э. Гольдман в Петрограде, 1917-1921
- Archibald M. Peter Bianki: The Soviet Years. URL: https://www.katesharpleylibrary.net/pnvzh1 (дата обращения: 08.06.2019).
- Avrich P. Anarchist Voices. An Oral History of Anarchism in America. Princeton: Princeton University Press, 1995. 574 p.
- Avrich P. The Russian Anarchists. Edinburgh; Oakland: AK Press, 2005. 303 p.
- Avrich P., Avrich K. Sasha and Emma: the anarchist odyssey of Alexander Berkman and Emma Goldman. Cambridge; London: Harvard University Press, 2012. 490 p.
- Bantman C., Altena B. Introduction: Problematizing Scales of Analysis in Network-Based Social Movements // Reassessing the Transnational Turn. Scales of Analysis in Anarchist and Syndicalist Studies / Ed. by C. Bantman and B. Altena. Oakland: PM Press, 2017. P. 3-22.
- Berkman A. The Russian Tragedy / Comp. and intr. by W. G. Nowlin Jr. Sanday: Cienfuegos Press, 1976. 112 p.
- Berkman A. Prison Memoirs of an Anarchist. New York: New York Review Books, 1999. 518 p.
- Berkman A. The Bolshevik Myth. Diary 1920-1922. London; Zagreb: Active Distribution - Što čitaš?, 2017. 286 p.
- Berkman A., Goldman E. Deportation. Its Meaning and Menace. Last Message to the People of America by Alexander Berkman and Emma Goldman. New York: Ellis Island, 1919. 32 p.
- Berkman A., Goldman E. Bolsheviks shooting anarchists // Freedom (London). 1922. Jan. URL: https://www.katesharpleylibrary.net/stqm18 (дата обращения0 8.06.2019).
- Engman M. Raja. Karjalankannas 1918-1920. Helsinki: WSOY, 2007. 797 s.
- Goldman E. Anarchism and Other Essays. New York: Mother Earth, 1910. 277 p.
- Goldman E. The Truth about the Boylsheviki. New York: Mother Earth, 1918. 16 p.
- Goldman E. The Crushing of the Russian Revolution. London: Freedom Press, 1922. 42 p.
- Goldman E. My Disillusionment in Russia. London; Zagreb: Active Distribution - Što čitaš?, 2017. 257 p.
- Jacob F. From Aspiration to Frustration: Emma Goldman‟s Perception of the Russian Revolution // American Communist History. 2018. Vol. 17, № 2. P. 185-199.
- Minor R. Introduction // Berkman A., Goldman E. Deportation. Its Meaning and Menace. Last Message to the People of America by Alexander Berkman and Emma Goldman. New York: Ellis Island, 1919. P. 3-4.
- Mühsam E. Leaving the Rote Hilfe // Mühsam E. Liberating Society from the State and Other Writings. A Political Reader / Ed. and tr. by G. Kuhn. Oakland: PM Press, 2011. P. 182-183.
- Nowlin Jr. W. G. Introduction // Berkman A. The Russian Tragedy / Comp. and intr. by W. G. Nowlin Jr. Sanday: Cienfuegos Press, 1976. P. V-XVIII.
- Rosenstone R. A. Romantic Revolutionary. A Biography of John Reed. New York: Vintage Books, 1981. 430 p.
- Serge V. Anarchists Never Surrender. Essays, Polemics, and Correspondence on Anarchism, 1908- 1938 / Ed. and tr. by M. Abidor. Oakland: PM Press, 2015. 236 p.
- Tsovma M. 'It is imperative to unmask the great delusion…' // Berkman A. The Bolshevik Myth. Diary 1920-1922. London; Zagreb: Active Distribution - Što čitaš?, 2017. P. 5-16.
- Wexler A. Emma Goldman in Exile. From the Russian Revolution to the Spanish Civil War. Boston: Beacon Press, 1989. 301 p.
- Zimmer K. A Golden Gate of Anarchy: Local and Transnational Dimensions of Anarchism in San Francisco, 1880s-1930s // Reassessing the Transnational Turn. Scales of Analysis in Anarchist and Syndicalist Studies / Ed. by C. Bantman and B. Altena. Oakland: PM Press, 2017. P. 100-117.
- Zoffmann Rodriguez A. „Off to Moscow with no passports and no money‟: the 1921 Spanish syndicalist delegation to Russia // European History Quarterly. 2018. Vol. 48. № 3. P. 435-461.
- Герварт Р., Хорн Д. Большевизм как фантазия: страх перед революцией и контрреволюционное насилие (1917-1923 годы) // Война во время мира: Военизированные конфликты после Первой мировой войны. 1917-1923. Сб. ст. под ред. Р. Герварта и Д. Хорна. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 63-80.
- Гольдман Э. Анархизм. Пг.; М.: Голос труда, 1921. 116 с.
- Гольдман Э. П. А. Кропоткин / Пер. Е. А. Серебрековой // Былое. 1921а (1922). № 17. С. 100-105.
- Гольдман Э. П. А. Кропоткин / Пер. Е. А. Серебрековой // Памяти Петра Алексеевича Кропоткина / Всероссийский общественный комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина. Пг.; М., 1921b. С. 118-122.
- Гольдман Э. Проживая свою жизнь: Автобиография. Т. 3 / пер. Л. Тимаровой, М. Цовмы. М.: Радикальная теория и практика, 2018. 418 с.
- Грав Ж. Синдикализм в общественном развитии. Пг.; М.: Голос труда, 1920. 27 с.
- Дединкин М. О. "Товарищество пролетарского искусства" Фридриха Брасса: коллекция немецкого авангарда в Советской России: Каталог выставки. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. 257 с.
- Директивы командования фронтов Красной армии (1917-1922 гг.): Сб. докл. в 4 т. Т. 4. Материалы, указатели / отв. сост. Т. Ф. Каряева. М.: Воениздат, 1978. 728 с.
- Журавлѐв С. В. "Маленькие люди" и "большая история": иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920-1930-х гг. М.: РОССПЭН, 2000. 351 с.
- Иванов Д. И. Шлиссельбургский политкаторжанин П. Н. Колобушкин и анархистское движение в России // Неопубликованный доклад на конф. "Крепость Орешек в 1917-1918 гг"., 5 сент. 2017 г. Гос. музей истории Санкт-Петербурга, филиал "Крепость Орешек" (в печати).
- Иванов Д. И. Ранние советские некрологи как источник революционной биографии: на примере И. П. Жука и В. О. Лихтенштадта (Мазина) // Право на имя. Биографика ХХ века. 15-е чтения памяти В. Иофе. 20-22 апр. 2017: Сб. докл. / под ред. Т. Б. Притыкиной и Е. В. Русановой. СПб.: Мемориал, 2018. С. 3-14.
- Катунин Ю. Пѐтр Бианки. Пиво, анархия или коммунизм. URL: http://www.beercult.ru/profiles/blogs/peterbianki (дата обращения: 08.06.2019).
- Леонтьев Я. В. Введение // Партия левых социалистов-революционеров. Док. и матер. / отв. ред. А. К. Сорокин. М.: РОССПЭН, 2017. Т. 2, ч. 3 С. 5-52.
- Партия левых социалистов-революционеров. Док. и матер. Т. 2, ч. 2 / отв. ред. В. В. Шелохаев. М.: Росспэн, 2015. 1184 с.
- Рабинович А. Большевики у власти. Первый год советской эпохи в Петрограде / пер. И. Давидян. М.: АИРО-XXI - Новый хронограф, 2008. 622 с.
- Статистический сборник по Петрограду и Петроградской губернии. 1922 г. Пг.: Петроград. губ. отдел статистики, 1922. 344 с.
- Хмелевская Ю. Ю. "Как в завоеванной стране": американский опыт Первой мировой войны в борьбе с голодом в Советской России (1921-1923) // Опыт мировых войн в истории России: Сб. ст. под ред. И. В. Нарского, О. С. Нагорной, О. Ю. Никоновой, Б. И. Ровного, Ю. Ю. Хмелевской. Челябинск: Каменный пояс, 2007. С. 553-576.
- Черненко Ж. И. Эмма Гольдман о русской революции и большевизме // Вестник Московского университета. Сер. 12: Политические науки. 2013. № 6. С. 81-90.
- Чистиков А. Н. У кормила власти // Яров С. В., Балашов Е. М., Мусаев В. И., Рупасов А. И., Чистиков А. Н. Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. 2-е изд. М.: Центрополиграф, 2013. С. 15-94.
- Яров С. В., Балашов Е. М., Мусаев В. И., Рупасов А. И., Чистиков А. Н. Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. 2-е изд. М.: Центрополиграф, 2013. 542 с.