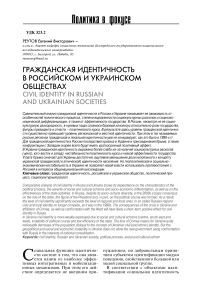Гражданская идентичность в российском и украинском обществах
Автор: Реутов Евгений Викторович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 5, 2014 года.
Бесплатный доступ
Сравнительный анализ гражданской идентичности в России и Украине показывает ее зависимость от особенностей политического процесса, степени выраженности социокультурных расколов и социоэкономической дифференциации, а также от эффективности государства. В России, несмотря на ее социокультурную разнородность, в нулевых годах сложился базовый консенсус относительно роли государства, фигуры президента и отчасти политического курса. В результате здесь уровень гражданской идентичности существенно превышает уровень региональной и местной идентичности. При этом в так называемых русских регионах гражданская и локальная идентичности уже не конкурируют, как это было в 1990-х гг. Для гражданской идентичности в России последствия кризиса в Украине и присоединения Крыма, а также конфронтации с Западом скорее всего будут иметь краткосрочный позитивный эффект. В Украине гражданская идентичность выражена более слабо из-за наличия социокультурных расколов (центр, юго-восток и запад), нестабильности политического курса и низкой эффективности государства. Утрата Крыма означает для Украины достаточно ощутимое уменьшение доли нелояльного к концепту украинской гражданской (и этнической) идентичности населения. Но геополитическая и социально-экономическая нестабильность в Украине не позволяет новой власти использовать противостояние с Россией в интересах общенациональной консолидации.
Гражданская идентичность, российское и украинское общество, политический процесс, социокультурный раскол
Короткий адрес: https://sciup.org/170167463
IDR: 170167463
Текст научной статьи Гражданская идентичность в российском и украинском обществах
Социальная функция идентичности состоит в том, что она является одним из наиболее эффективных интегративных и мобилизационных механизмов. При этом его действие определяется не внешним при нуждением, но добровольным принятием субъектом идентификации модуса поведения, свойственного большой или малой социальной группе.
В соответствии с объектами идентификации социальная идентичность может быть культурной (культурноцивилизационной), этнической, политической, групповой, профессиональной и т.д. Специфика гражданской идентичности состоит в том, что она представляет собой чувство сопричастности не к примордиальным группам (семье, клану, этносу), об идентификации с которыми говорит «голос крови», а к политическому сообществу. В формировании гражданской идентичности ключевую роль играют вторичные агенты социализации, такие как государство, СМИ и пр. И поскольку гражданская идентичность, как правило, возникает позже многих других форм социальной идентичности (локальной, этнической, культурной и др., формирование которых во многом спонтанно и естественно), она нередко вступает в конфронтацию с ними.
Сложность формирования гражданской идентичности состоит также в том, что на ней напрямую отражается политика государства – в виде целенаправленного воздействия на патриотические чувства граждан и как спонтанный эффект, возникающий вследствие эффективности или неэффективности государства в обеспечении нормальной жизнедеятельности сообщества. Помимо политического фактора, на гражданскую идентичность очень сильно влияет дифференциация общества – наличие и степень выраженности социокультурных, территориальных и социоэкономических расколов.
Исследование гражданской, а также локальной, культурной (прежде всего, религиозной, конфессиональной) идентичностей представляет собой не только академическую задачу. В современном мире можно набрать огромное число примеров того, как идентификация по тому или иному признаку сплачивает или, наоборот, дезинтегрирует общества, снижает или увеличивает вероятность политических и межэтнических конфликтов. Нередко идентичность используется политиками как инструмент воздействия на массы. Последние события в Украине показали, насколько зыбкой может оказаться гражданско-государственная идентичность в условиях социокультурных расколов, политического хаоса, бессилия государства и воздействия внешних сил. И хотя
Украина является «крайним» примером, подобные процессы в той или иной мере характерны, по большому счету, для всех гетерогенных обществ.
Целью данной статьи является анализ гражданской идентичности в российском и украинском обществах, а также попытка установления взаимосвязи выраженности данного феномена с конкретными политическими процессами. Материалом для анализа послужили данные социологических мониторингов, проведенных в разные годы российскими и украинскими исследовательскими центрами.
И Россия, и Украина представляют собой общества с сильнейшими социокультурными (и даже цивилизационными) разломами. В России – это противоречия между традиционной, в основе своей православной культурой, не менее традиционной исламской культурой и прозападной либеральной культурой, не говоря уже о многочисленных промежуточных и периферийных вариантах и субкультурах. В Украине продолжается (и в значительной мере оформляется) социополити-ческое размежевание юго-востока, центра и запада страны. Переход Крыма под юрисдикцию России, с одной стороны, снижает уровень социокультурной дифференциации Украины, с другой – способствует дальнейшему развитию центробежных тенденций юговосточных регионов. Социокультурная дезинтеграция в сочетании с низкой эффективностью государственного управления препятствуют формированию политической общности.
Для России проблема неэффективности государства не является столь серьезной, как для Украины, но сто и т, тем не менее, достаточно остро. Большинство политических институтов обладают весьма слабой легитимностью, а прочность политической системы во многом зависит от фигуры «национального лидера». Тем не менее данные социологических исследований показывают высокий уровень гражданской идентичности россиян.
Процесс формирования идентичности носит многоступенчатый и противоречивый характер. С начала 1990-х гг. в РФ региональная идентичность во многом выполняла компенсаторную функцию в условиях кризиса общенациональной идентичности, когда «население субъектов РФ оказалось в ситуации, сопоставимой – несмотря на кажущуюся абсурдность такой аналогии – с той, в которой пребывали древние племена в эпоху формирования у них мифологии» [Малякин 2000: 111]. Причем стихийное формирование региональных общностей зачастую опережало институциональное строительство. Соответственно этому проявления регионального сознания часто вступали в противоречие с официальной версией российского федерализма. Тем не менее эффект федерализации и приобретения областями и краями бывшей РСФСР статуса субъектов федерации (институциональный фактор) имел приоритетное значение для становления локальной идентичности (в особенности в «русских» регионах). «В отсутствие четких культурных границ между русскими ареалами политико-историческая или политико-административная идентификация становится естественным заменителем культурно-провинциальной» [Туровский 1999: 97]. Из неинституциональных факторов формирования региональной идентичности в 90-е гг. наибольшее значение имел лавинообразный процесс утраты центральной государственной властью социальной функции и ее тотальная неэффективность [Большаков 2003].
Первыми проявлениями региональной идентичности стало формирование политического самосознания в этнических республиках, которые в 1990–1991 гг. провозгласили суверенитет. В результате представители титульного этноса стали считать первичной и определяющей свою принадлежность именно к республике, а уже потом – к России. Усиление автономистских тенденций в республиках стимулировало похожий, хотя и менее интенсивный процесс в краях и областях России [Туровский 1999: 91]. В итоге формирование региональной идентичности в политическом пространстве России было неравномерным. В этнических республиках, где уже существовал опыт хотя и декоративной, но все же государственности в рамках автономных республик, обладавших своими конституциями, инициаторами региональной идентификации стали республиканские элиты. В областях и краях России формирование региональной идентичности было более спонтанным процессом, и общегражданская идентичность там оставалась более значимой.
Тем не менее в России, несмотря на ее социокультурную разнородность, в нулевых годах сложился базовый консенсус относительно роли государства, фигуры президента и отчасти – политического курса. По результатам мониторинга ВЦИОМа (2014 г.), 63% респондентов признали себя, прежде всего, «гражданами России», «жителями своего региона, города, села» – 24% и представителями этнической группы – 20%. На протяжении второй половины нулевых – первой половины 2010-х гг. это соотношение менялось, но не очень сильно. Так, в 2008 г. был зафиксирован пик общегражданской идентичности. Гражданами России в первую очередь признавали себя 70% опрошенных, носителями локальной идентичности – 22%. К 2009 г. удельный вес носителей локальной идентичности снизился до 12%, общегражданской – до 48% 1 .
Из этого следуют, по крайней мере, два вывода. Во-первых, в современных условиях в России общегражданская и локальная идентичности фактически уже не конкурируют, как это было в 1990-е гг. По крайней мере, так обстоит дело в «русских» регионах. Ситуация в этнических республиках представляется более сложной. Во-вторых, достаточно очевидной представляется взаимосвязь динамики гражданской идентичности с экономической и политической ситуацией в обществе. Во-первых, 2008 г. был последним предкризисным годом; во-вторых, конфронтация с Грузией способствовала негативной консолидации российского общества. В 2009 г. начали сказываться последствия финансово-экономического кризиса, и это ощутимо повлияло на уровень самоидентификации граждан с политическим сообществом. Одновременно, по данным опроса, возрастает уровень «абстрактно-видовой» идентичности
– «просто человек» – с 26% в 2008 г. до 30% в 2009 г. 1
Ситуация с общегражданской идентичностью в Украине, как отмечалось ранее, представляется гораздо более сложной ввиду наличия постоянно актуализирующихся социокультурных (а в настоящее время – и геополитических) расколов. «Автономистские интересы части украинского общества пока еще имеют черты не столько осознанного политического интереса достижения определенных целей… сколько проявления реакции самозащиты в условиях неудовлетворенности нерешенностью вопросов своей культурноцивилизационной самоидентификации» [Зоткiн 2013: 89].
На протяжении 1992–2013 гг., по данным Института социологии НАН Украины, уровень общегражданской идентичности не поднимался выше 54,6% (в 2005 г.). И этот пик, по-видимому, был обусловлен эйфорией общества от «оранжевой революции», в ходе которой народ в лице националистической и одновременно прозападной контрэлиты одержал победу над властью. Удельный вес респондентов с региональной и местной идентичностью в совокупности составлял тогда 33,9%. В 2013 г. доля респондентов с общегражданской идентичностью снизилась до 50,6%, с региональной и местной идентичностью – увеличилась до 36,4% [Українське суспiльство… 2013: 490]. В 2012 г., по данным Центра Разумкова, отвечая на вопрос: «В последнее время говорят о том, что украинское общество разделилось на две почти враждующие части по региональному признаку. Как Вы считаете, существует ли такой раскол общества?» – 41,9% респондентов отметили наличие такого раскола, 42% – его отсутствие. При этом наибольшее число респондентов, отметивших наличие межрегионального раскола (59,5%), было зафиксировано в южной части Украины (в том числе в АР Крым)2. Тем не менее даже в январе 2014 г. идею федерализации Украины не поддерживало абсолютное большинство респондентов – 61,4% против 15,8% (данные Центра Разумкова). Достаточно немного респондентов высказывалось за выход своей области из состава Украины на правах независимости (4,5%) или присоединение ее к другому государству (5,5%). Причем в южных и восточных регионах эта доля также не была критической. На юге Украины идею создания самостоятельного государства поддержали 12,7% опрошенных, присоединение к другому государству – 13,1%. На Востоке соответствующие доли респондентов составили 4,7% и 8,6% 3.
Можно предположить, что последствия Евромайдана и присоединения к России Крыма будут иметь двойственное значение для общегражданской идентичности населения Украины. С одной стороны, отделение Крыма означает для Украины достаточно ощутимое уменьшение доли нелояльного к концепту «украинской» гражданской (и этнической) идентичности населения. С другой – геополитическая и социально-экономическая нестабильность в Украине не позволяет новой власти использовать противостояние с Россией в интересах общенациональной консолидации.
Для гражданской идентичности в России последствия кризиса в Украине и присоединения Крыма, а также конфронтации с Западом, скорее всего, будут иметь краткосрочный позитивный эффект. Социологические опросы демонстрируют восприимчивость россиян к конфронтационной и патриотической риторике и рост на этой волне поддержки политического курса и действий президента. Однако неблагоприятные экономические последствия от ассимиляции Крыма, санкций со стороны западных стран и, главное, от милитаризации экономики и вынужденной в силу этого реструктуризации социальных расходов может оказать негативное влияние на гражданскую идентичность в долгосрочной перспективе.
Статья подготовлена в рамках Задания №2014/420 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России (рук. В.П. Бабинцев).