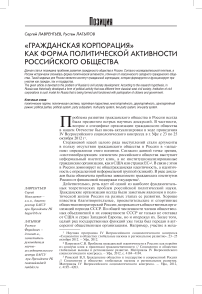"Гражданская корпорация" как форма политической активности российского общества: партийный аспект
Автор: Лаврентьев Сергей Николаевич, Латыпов Рустем Фаридович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Позиция
Статья в выпуске: 12, 2012 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена проблеме развития гражданского общества в России. Согласно исследовательской гипотезе, в России исторически сложилась форма политической активности, отличная от классического западного гражданского общества. Такой моделью для России является институт гражданской корпорации, которая формируется и функционирует при участии как граждан, так и государства.
Политические партии, политическая система, партийная подсистема, многопартийность
Короткий адрес: https://sciup.org/170166177
IDR: 170166177
Текст научной статьи "Гражданская корпорация" как форма политической активности российского общества: партийный аспект
П роблема развития гражданского общества в России всегда была предметом острых научных дискуссий. В частности, вопрос о специфике организации гражданского общества в нашем Отечестве был вновь актуализирован в ходе проведения IV Всероссийского социологического конгресса в г. Уфе с 23 по 25 октября 2012 г1.
Стержневой идеей целого ряда выступлений стали аргументы в пользу отсутствия гражданского общества в России в «запад -ном» определении этого понятия. Согласно данной точке зрения, «системообразующим элементом российского общества выступает неформальный институт клик, а не институционализированные гражданские организации, как в США или странах ЕС»2. В связи с этим в России доминирует не общегражданская идентичность, а идентич ность с определенной неформальной группой (кликой). В ряде докла-дов была обозначена проблема зависимости гражданских институтов России от финансовой поддержки государства3.
ЛАВРЕНТЬЕВ Сергей
Действительно, речь идет об одной из наиболее фундаменталь-ных теоретических проблем российской политической науки. Гражданские организации всегда были заметным явлением в поли -тической жизни России на разных этапах ее развития. Хорошо известны благотворительные, просветительские и спортивные общества императорской России, широкая сеть общественных орга-низаций периода СССР. По общей численности членов обществен -ных объединений и их совокупности СССР не только не отставал от США и стран Западной Европы, но и опережал их. Более того, целый ряд государственных функций уже тогда был передан в аут сорсинг общественным организациям. Например, участие в меха -
-
1 Научная программа IV Всероссийского социологического конгресса «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие». 23—25 октября 2012. - Уфа, 2012.
-
2 Патрушев С.В. Проблема гражданской идентичности в России: как перейти из социума клик к практикам гражданственности // Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие. Материалы IV Всероссийского социологического конгресса. — Уфа, 2012, с. 4184-4194.
-
3 Римский В.Л. Гражданское общество и государство в современной России // Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие. Материалы IV Всероссийского социологического конгресса. - Уфа, 2012, с. 4195-4203.
низме выдачи разрешений на охотничье оружие (Общество охотников и рыболовов), подготовка автолюбителей для сдачи экзаменов на получение водительских прав (ДОСААФ и Общество автолюбителей) и т.д.
Вместе с тем политологическая теория датирует начало формирования гражданского общества в России 1991 г. Как объяснить этот парадокс? Гражданские объединения Российской империи, СССР и, во многом, Российской Федерации не отвечают двум принципиальным критериям, предъявляемым политической теорией к институтам гражданского общества: они не являются финансово независимыми от государства и не вполне свободны от вмешательства государства во внутриор-ганизационную политику, в т.ч. и кадровую. Ведь согласно теории гражданского общества его элементами могут считаться лишь те организации, которые осуществляют свою деятельность на волонтерской основе, на членские взносы или пожертвования частных лиц, что должно обеспечить их политическую независимость от административных элит.
Здесь наши коллеги допускают, на наш взгляд, серьезную теоретическую ошибку. В качестве некоторого «идеального типа» (по методологии М. Вебера) авторами избирается некий эталонный объект. В данном случае это форма гражданской политической активности, характерная для европейских и североамериканской политических систем, – так называемое гражданское общество. Далее, используя метод компаративного политологиче -ского анализа, авторы убедительно доказывают, что формы гражданской активности в России не соответствуют понятию западного гражданского общества. Этот факт подвергается острой критике; «виновными» назначаются отечественная бюрократия или специфика российской политической культуры населения и т.д. Далее, как правило, следует формирование ценностной установки на построение в России «настоящего» гражданского общества.
Серьезным упрощением реально -сти является представление российских общественных организаций как государственных структур, что просто является научно некорректным. Российские общественные объединения всегда пользовались определенной автономией от системы государственного управления. Хотя, как и в политических системах США и Западной Европы, активисты общественных организаций рекрутировались в кадровый резерв для занятия должностей как политической, так и карьерной демократии. Работники аппарата общественных организаций, а тем более их рядовые члены, пользовались гораздо большей свободой, нежели государственные чиновники. Российское государство никогда не препятствовало гражданским инициативам, а, напротив, всячески поощряло общественную активность. Хотя при этом выдвигалось условие, что эта активность должна носить конвенциональный характер по отношению к государственному политическому курсу. В их функции входила политическая социализация и политическая мобилизация граждан. То есть, государство рассматривало общественные организации как один из важных ресурсов политической власти, как дополнительный инструмент легитимации политической системы, удерживающий ее в равновесном состоянии.
В этой связи встает очень важная теоретическая проблема, связанная с научным пониманием статуса гражданских организаций в России. Очевидно, что определенная модель гражданской активности в России существует, но не в форме классического гражданского общества. Согласно нашей гипотезе, для объективного понимания российской модели гражданской активности необходимо ввести новое научное понятие – «гражданская корпорация».
Термин «корпорация» как таковой для социологии и политической науки не нов. Согласно Г.Ю. Семигину, «корпоративизм (от лат. corporation – объединение, сообщество) – один из механизмов, позволяющих ассоциациям (корпорациям) как посредничать и осуществлять взаимодействие между своими членами (индивидами, семьями, группами, фирмами, олигархическими структурами, сообществами), так и представлять их интересы при сотрудничестве с государственными (правительственными) органами»1. В современной политологической теории корпорации традиционно рассматриваются как один из субъектов политики наряду с политическими лидерами, элитами, группами влияния и т.д.
Исторически корпоративизм являлся формой социальной организации, в кото -рой корпорации в качестве неправитель ственных организаций, пользующихся значительным авторитетом среди своих членов, играли посредническую роль между ними и государством. Сам термин «корпорация» (лат. corpus — тело) возник в период средневековья. Корпорациями в XIV-XV вв. назывались сословно-профессиональные организации цехового типа, защищавшие и отстаивавшие инте-ресы членов цеха. В 20-х-30-х гг. XX в. корпоративизм был включен в доктрину итальянского фашизма Б. Муссолини. Социальным реформам, проводив -шимся в странах, возглавлявшихся сто ронниками большевизма или социал демократии, сторонники корпоративизма противопоставляли власть «корпораций» (камер) — не избираемых органов, пред -ставляющих различные отрасли промыш ленности и сельского хозяйства, которые должны были заменить собой профсоюзы. Невыборный характер этих органов под -черкивался как достоинство по сравне нию с демократией и связанной с ней борьбой политических партий, т.к. это, по мнению Б. Муссолини, якобы препят ствовало единению нации. В результате после окончания Второй мировой войны термин был дискредитирован на долгие годы. «Реабилитация» корпоративизма была связана с деятельностью европей ских партий христианских демократов, хотя сами они предпочитали использовать более политкорректный синоним — «соли-даризм».
В середине 70 -х гг. XX в. западные поли -тологи ввели в научный оборот понятие «неокорпоративизм». Классическим здесь является определение, данное в рам ках неокорпоративистской методологии политологом из США К. Шмиттером. Оно гласит, что неокорпоративизм есть «система представительства интересов, составные части которой организованы в несколько особых, принудительных, неконкурентных, иерархически упорядо ченных, функционально различных раз рядов, официально признанных или раз решенных (а то и просто созданных) го сударством, наделяющим их монополией на представительство в своей области в обмен на известный контроль за подбо ром лидеров и артикуляцией требований и приверженностей»1.
По мнению профессора Оксфордского университета Д. Голдторпа, «корпора-тизм» есть форма социальной организа-ции, при которой ключевые экономиче ские, политические и социальные реше ния принимаются корпоративными груп пами или этими группами и государством совместно. При этом индивиды могут влиять на принимаемые решения лишь посредством своего членства в корпора тивных органах2.
Исходя из этого, мы можем предложить собственное определение понятия граж данской корпорации. Гражданская кор порация — это модель взаимодействия и согласования интересов между госу-дарством и гражданской организацией, которая формируется и управляется на паритетных принципах межсекторного партнерства. Сторонами партнерства выступают государство, социальные группы граждан и бизнес. В отличие от классического гражданского общества, функционирующего на плюралистиче ских началах, государство принимает участие в прямом или косвенном фор мировании гражданской корпорации, ее финансировании, оказывает влияние на внутриорганизационную кадровую политику и определение политической позиции организации. Понятие граждан ской корпорации включает в себя граж данские корпорации «политической», «экономической», «профессиональной» и «культурно просветительской» направ ленности. В качестве классического при мера профессиональной гражданской корпорации можно привести систему полугосударственных профсоюзных орга низаций: Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) и его преемника — Федерацию неза-висимых профсоюзов России (ФНПР). Корпоративный характер приобрел еще один важный институт гражданского общества — местное самоуправление. Муниципальная реформа в России не увенчалась успехом в силу того, что пода вляющее большинство муниципальных образований оказались финансово зави симыми от государственной власти. Без финансовых трансфертов государства городские округа и сельские муници -пальные районы просто не смогут оказы-вать гражданам тот минимальный пакет социальных услуг, на которые они имеют право в соответствии с Конституцией РФ. Вместе с тем в соответствии с корпоратив -ными принципами государство фактиче-ски сохранило за собой право контроля над процессом кадрового рекрутинга лиц, замещающих высшие муниципаль-ные должности.
Архитектура политической конфигура-ции партийной системы была выстроена в соответствии с корпоративными прин-ципами и политическими интересами правящего кла сса. Своего рода ядром этой конструкции стала партия «Единая Россия» — ярко выраженная гражданская корпорация, объединившая в своих рам -ках элитные группы с довольно противо речивой идеологической ориентацией и политическими интересами. Диалог между институтом государства и данной политической корпорацией составил основу российского парламентаризма в период с 2003 по 2012 гг., т.к. именно эта партия от выборов к выборам последо вательно получала квалифицированное или конституционное большинство в высшем законодательном органе страны. В качестве второй по величине партии — гражданской корпорации выступает Коммунистическая па ртия Российской Федерации (КПРФ), которую далеко не случайно в СМИ именуют «министер-ством оппозиции». После событий октя бря 1993 г. КПРФ была единственной левой партией, допущенной властью к электоральным процедурам. В обмен на конвенциональнуюлиниюполитического поведения власть в лице соответствующих регистрационных органов несколько раз спасала КПРФ от раскола, отказываясь признать легитимность решений съездов фрондирующих внутрипартийных оппо зиционеров. В виду того что удельный вес левого сегмента электората является значительным, не без подд ержки госу дарства была создана еще одна партия – корпорация левого толка «Родина», впоследствии переформатированная в «Справедливую Россию». Право политического представительства интересов правоконсервативного (националистического) сегмента электората было делегировано Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Прошли государственную регистрацию, но не преодолели барьер прохождения в парламент партии «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты России», хотя все они также относятся к типажу партий-корпораций.
Характерным «кейсовым» случаем является неудачная попытка видного представителя российского большого бизнеса М. Прохорова возглавить «Правое дело» на выборах в Государственную Думу ФС РФ 2011 г. Для классической западной политической партии, структура которой выстраивается снизу вверх – от избирателей и первичных политических комитетов, принципиально невозможна ситуация, когда политик, обладающий большими деньгами, но не имеющий партийного стажа, начинает партийную карьеру сразу с поста председателя партии. В РФ публично озвученные намерения М. Прохорова возглавить «Правое дело» получили немедленную поддержку высших партийных функционеров. Однако впоследствии М. Прохоров отказался учитывать позицию административных элит России при формировании внутрипартийной кадровой политики («казус Ройзмана»), после чего был вынужден отказаться от своего так и не состоявшегося назначения.
Вместе с тем политико-административная элита РФ вполне осознает, что корпоративные отношения с праволиберальным электоратом не вполне институционализированы. Отсутствие праволиберальной партии в Государственной Думе обусловлено и организационной слабостью правых, и отсутствием общепризнанного лидера. Именно в этом аспекте необходимо рассматривать новую попытку М. Прохорова сформировать объединенную праволиберальную партию на базе
«Гражданской платформы»1. Дальнейшее развитие данной партии возможно по двум принципиально различным сценариям. Первый сценарий предполагает согласие М. Прохорова стать председателем еще одной партийной корпорации. В этом случае прохождение «Гражданской платформы» в Государственную Думу и дальнейшая политическая карьера ее лидера не вызывают сомнений. Второй сценарий предусматривает организацию первой в России некорпоративной политической партии, но при этом неизбежен конфликт с Кремлем, который чреват трудно предсказуемыми политическими последствиями.
В результате мы можем подтвердить правильность первоначальной гипотезы о корпоративной модели гражданской активности в России. Нами установлено, что институт гражданских корпораций является не продуктом переходного периода, а устойчивой формой гражданской активности в России, пережившей несколько политических систем. Например, поздние российские императоры оказывали содействие созданию разного рода «обществ трезвости» на корпоративных началах с назначением отставных генералов полиции в качестве председателей их попечительских советов. В СССР слово «общественник» носило одобрительный идеологический смысл и означало активного члена гражданской корпорации. Поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что гражданские корпорации не являются переходным звеном между общинным типом общества и гражданским обществом, как это считается в современной политологической теории. В связи с этим трудно надеяться на естественную эволюцию гражданских корпораций в сторону гражданского общества. Вопрос же о том, возможен ли в принципе такой «гражданский транзит» и какие условия необходимо для этого обеспечить, нуждается в отдельных глубоких научных исследовани ях.