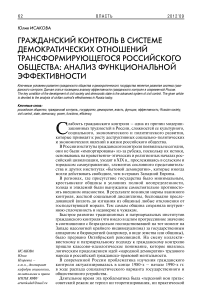Гражданский контроль в системе демократических отношений трансформирующегося российского общества: анализ функциональной эффективности
Автор: Исакова Юлия Игоревна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 9, 2012 года.
Бесплатный доступ
Ключевым условием развития гражданского общества и демократического государства является развитая система гражданского контроля. Данная статья посвящена анализу эффективности гражданского контроля в современной России.
Российское общество, гражданский контроль, государство, демократия, власть, функции, эффективность
Короткий адрес: https://sciup.org/170166584
IDR: 170166584
Текст научной статьи Гражданский контроль в системе демократических отношений трансформирующегося российского общества: анализ функциональной эффективности
С лабость гражданского контроля – одна из причин модернизационных трудностей в России, сложностей ее культурного, социального, эконо мического и политического развития, которые приводят к росту деструктивных социально-политических и экономических явлений в жизни российского общества.
В России институты гражданского контроля появились не сегодня, они не были «импортированы» из-за рубежа, поскольку их истоки, основываясь на нравственно-этических и религиозных началах российской цивилизации, уходят в XIX в., прослеживаясь в сельском и городском самоуправлении, элементах сословного представительства и других институтах «бытовой демократии», которые иногда могли действовать свободнее, чем в странах Западной Европы.
В регионах, где присутствие государства было минимальным, крестьянские общины в условиях полной неопределенности, голода и эпидемий были вынуждены самостоятельно противостоять внешним опасностям. В результате возникли нормы взаимного контроля, жесткой социальной дисциплины, беспощадно преследовавшей (вплоть до изгнания из общины) любые отклонения от господствующей морали. Тем самым община сохраняла внутреннюю сплоченность и недоверие к чужакам.
ИСАКОВА Юлия
Быстрое развитие традиционных и патриархальных институтов гражданского контроля (что имело в целом прогрессивное значение в соотношении с безраздельно господствовавшей на тот момент на Западе идеологией крайнего индивидуализма) за государственным аппаратом и бюрократией (например, в виде земства или общины), было прервано Октябрьской революцией. На смену коллективистскому и патриархальному подходу к гражданскому контролю пришло классово-идеологическое понимание, которое являлось логическим продолжением идей «народной демократии» трудового народа и российской гражданско-правовой ментальности.
В современной России проблематика изучения гражданского контроля актуализировалась в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в ходе распада социалистического варианта государственного и общественного устройства.
Длительное время эта проблематика была «персоной нон грата»: советский режим не терпел ни теоретизирования, ни практической деятельности по поводу возможного гражданского контроля.
Именно слабость гражданских институтов советского периода после распада идеологических и государственных структур привела к фактической дезинтеграции советской общественной системы, когда часть населения от диссидентства и форм открытого протеста перешла к участию в гражданских движениях.
При этом нельзя утверждать, что в советском государстве гражданский контроль полностью отсутствовал и что все независимые от государства общественные институты, организации и группы были полностью контролируемы, поскольку ряд общественных институтов сохраняли некоторую степень гражданской автономии (например, религиозные организации). На полулегальном положении действовали и первые правозащитные организации с сильными региональными сетями и опытом работы в коалициях и партнерствах с другими организациями. Такие общественные институты отражали в своей деятельности общесоциальные и гуманные ценности и идеи, отражающие в повседневной жизни верность моральным и историческим традициям общества.
Гражданский контроль в современном российском обществе находится в кризисном состоянии, поскольку его традиционные формы, связанные с формированием советской «коллективной общности» и привязкой общественных институтов к партийно-государственной системе, перестали эффективно действовать на рубеже 1980-х–1990-х гг.
В 1990-х гг. в обществе возникло сильное социальное расслоение, больше соответствующее социальным разрывам, существующим в странах третьего мира. Колоссальные состояния были нажиты практически мгновенно, причем не за счет честной длительной и кропотливой работы (как это происходило в западных странах), а за счет ловкого и беззаконного обмена власти (в т.ч. теневой) на собственность. В философской литературе и публицистике эта система получила название «олигархиче ского капитализма»1 .
Радикальные либеральные социальноэкономические и политические реформы почти полностью разрушили всю социально-экономическую и социальнополитическую систему, не создав им продуктивной замены. Государство практически полностью отказалось от социальной сферы, систему социальной защиты и обеспечения граждан, при этом эффективная система регулирования социальной сферы в рыночных условиях не была создана. Частные предприятия в большинстве своем не организовывали достойную систему социальной защиты своих работников, поскольку в массовом порядке уходили «в тень», стремясь провести максимальное число товарных оборотов по «льготным» налоговым схемам, чтобы упрочить бизнес.
Нежелание бизнеса покупать дорогие станки и энергоэффективное оборудование для генерации прибыли и успешной реализации продукции привело к тому, что зачастую выгодно стало использовать морально устаревшее оборудование, прослужившее два, а то и больше положенного срока годности, и нанимать целый цех низкоквалифицированных рабочих (часто гастарбайтеров из стран ближнего зарубежья), которых при любом удобном случае можно уволить и нанять новых желающих за низкую оплату, что структурно закрепляет наличие профессионально неподготовленных и недисциплинированных рабочих.
Однако бедное население может быть производительным, дисциплинированным, трудоспособным только при распаде традиционного общества (как это происходило, например, в Южной Корее и ряде других стран Восточной Азии на этапе индустриализации). Но в России традиционное общество распалось еще в эпоху форсированной индустриализации, поэтому бедность и дешевизна рабочей силы приводит только к снижению ее квалификации, инновационности, производительности. Чтобы не происходила маргинализация и депрофессионализация рабочих, государство должно активно вмешиваться в переговоры по тарифным соглашениям и социальным гарантиям. По-прежнему актуальны вопросы обеспечения занятости, сохранения рабочих мест, увеличения заработной платы, улучшения условий труда, защиты трудовых и социальных прав работников, социальноэкономического положения работающего на предприятии персонала и членов их семей и социального обеспечения бывших работников.
Развитие институтов гражданского контроля за государственным аппаратом и бюрократией в трансформирующемся обществе происходит в контексте доминирования авторитарных политических тенденций и укрепления уникального «президентско-премьерского» политического режима, который в целом соответствует действующей Конституции РФ (основные положения которой западные исследователи1 называют «строительными блоками для автократии»).
Парламент в российской системе играет вспомогательную роль, а функции гражданского контроля выполняются им только эпизодически и не системно. Во многом структурные причины состоят в особом «конституционном ослаблении» законодательной власти и сочетании административных полномочий президента и парламента таким образом, чтобы это «способствовало не только конкуренции и конфликтам между этими двумя институтами, но и разрешению таких конфликтов посредством осуществления Президентом своего права игнорировать, избегать или преодолевать Парламент»2.
С.В. Алиева указывает, что «переход к открытому обществу в России сопровождается такими дезинтегративными явлениями, как несогласованность и противоречивость целей общества и отдельных индивидов; противостояние двух противоположных тенденций – традиционной и инновационной»3.
Как показывают данные социологических опросов, проведенных Левада-Центром, в первой половине 2010 г. только 20% населения страны считали обстановку в России спокойной и благополучной. Больше половины граждан (59%)
убеждены, что Россия идет по неверному пути, и только 19% опрошенных говорят, что верят в правильность курса.
Собственное материальное положение назвали хорошим 18% опрошенных, 54% сочли его тяжелым, но терпимым, 24% заявили, что «больше терпеть невозможно». 11% надеются на улучшение своего материального положения в будущем, 29% полагают, что оно будет только ухудшаться. 34% россиян готовы участвовать в массовых выступлениях протеста, 19% готовы участвовать в забастовках, деятельность правительства не одобряют 64% опрошенных4 .
Вертикальная иерархизированная политическая культура, дополняемая господствующим административным «квазидобровольным одобрением» и ориентированная на максимально возможную политическую и административную определенность развития страны, демотивирует граждан к участию в общественной и политической жизни и к активным коллективным действиям по защите своих экономических, политических и гражданских прав.
Как указывают западные исследователи, трансформационный кризис в России по своей общественной природе носит политический характер. Так как политические оппоненты не стремились к достижению компромисса, политическая безответственность и коррупция российской власти никогда не подвергалась рефлексии и самокоррекции. Борьба с коррупцией носила скорее случайный и эпизодический характер.
По этому поводу можно согласиться с мнением Г.В. Пушкаревой, которая подчеркивает, что одна из важнейших проблем современной российской политической системы заключается в ее «неустойчивости, подверженности воздействию случайных факторов, способных переформатировать архитектонику нормативного порядка, усилить структуры, открывающие легальные возможности для превращения страны из формально демократической в формально авторитарную»5.
Как отмечает Ю.А. Красин1, современное гражданское общество амбивалентно и представляет собой антиномичный сим -биоз демократии и авторитаризма, огра -ничивающий возможности демократиче -ского развития гражданского общества. В России уже длительное время осущест-вляется переход от «авторитаризма моби-лизованного участия» к «конкурентной олигархии» — разновидности элитарного правления, при котором формальные институты демократии используются в недемократических целях.
В современной России гражданский контроль является достаточно сложным общественным образованием, доступным далеко не всем слоям и группам населения как по объективным (огромная террито-рия России, значительная отдаленность населенных пунктов от административ ных центров и пр.), так и субъективным причинам.
Конструктивная работа как по расши-рению территориального охвата действия существующими институтами граж данского контроля, так и по созданию новых гражданских структур затрудняется неэффективной организацией институ циональных площадок на региональном уровне, нацеленных на выработку реше ний по модернизации с участием пред ставителей регионального гражданского общества и бизнеса.
Таким образом, гражданский контроль в трансформирующемся российском обществе невозможен без институцио- нального укрепления свободных граждан ских ассоциаций, неправительственных организаций и групп как объединений равноправных, автономных и активно действующих индивидов, деятельность которых направлена на решение острых социально экономических и социально политических проблем. Однако на данный момент в институциональном простран стве гражданского контроля фиксируется несоответствие формальных и неформаль-ных отношений и норм, выражающееся в наличии формализации отношений тре тьего сектора и государства при неустой чивой и непоследовательной политике государства в отношении структур граж данского общества и по прежнему высо ком уровне значимости для российского чиновничества их коррупционных инте ресов по сравнению с общественными.
В истории российского государства имперского и советского периодов есть прецеденты, которые исследователи склонны рассматривать как элементы гражданского общества и предпосылки институционализации гражданского кон троля. Это феномен казачества и кре -стьянских общин, автономная организа ция АН СССР и пр. Однако становление гражданских институтов и организаций в рамках гражданского общества проис ходит вне рамок уникального российского опыта, имеющегося в этом направлении, а основывается на западных принципах и ценностях взаимодействия общества и го сударства, в чем и видится отечественным ученым основная причина неудач в фор мировании и укреплении позиций граж данского общества в России.