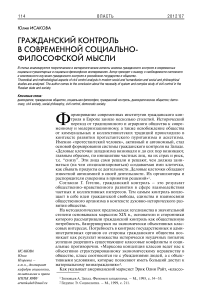Гражданский контроль в современной социально-философской мысли
Автор: Исакова Юлия Игоревна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 7, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются теоретические и методологические аспекты анализа гражданского контроля в современных социально-гуманитарных и социально-философских исследованиях. Автор приходит к выводу о необходимости системного и комплексного изучения гражданского контроля в российском государстве и обществе.
Демократия, гражданское общество, социальная философия, гражданский контроль, демократическое общество
Короткий адрес: https://sciup.org/170166460
IDR: 170166460
Текст научной статьи Гражданский контроль в современной социально-философской мысли
Ф ормирование современных институтов гражданского контроля в Европе заняло несколько столетий. Исторический переход от традиционного и аграрного общества к современному и модернизационному, а также освобождение общества от коммунальных и коллективистских традиций происходило в контексте развития протестантского пуританизма и аскетизма. Именно «протестантский человек», активный и автономный, стал основой формирования системы гражданского контроля на Западе. «Деловые клеточки западнизма возникали и до сих пор возникают, главным образом, по инициативе частных лиц, на их страх и риск, т.е. “снизу”. Эти лица сами решали и решают, чем должна заниматься (на чем специализироваться) создаваемая ими клеточка, как сбывать продукты ее деятельности. Деловые клеточки обладают известной автономией в своей деятельности. Их организаторы и распорядители суверенны в принятии решений»1.
Согласно Г. Гегелю, гражданский контроль – это результат общественно-нравственного развития в сфере взаимодействия частных и коллективных интересов. Тем самым контроль воплощает в себе идеи гражданской свободы, единства и взаимосвязи общественного организма в контексте духовно-исторического развития общества.
ИСАКОВА Юлия
На методологических предпосылках гегелианства в значительной степени основывался марксизм XIX в., основатели и сторонники которого рассматривали гражданский контроль как общественную потребность, базирующуюся на экономически объективных классовых интересах. Потребность в контроле государственных и административных органов со стороны гражданского общества возникает как результат множества исторически неудачных попыток успешно разрешить существующие классовые конфликты и социальные противоречия. «Марксова концепция классов ведет нас к объективно структурированному экономическому неравенству в обществе, класс соотносится не с убеждениями людей, а с объективными условиями, которые позволяют иметь больший доступ к материальному вознаграждению»2.
Как указывает американский марксист Эрик Олин Райт, «классо- вая структура – это <…> область социальных отношений, которые определяют объективные материальные интересы актеров, классовая борьба понимается как форма социальной практики, с помощью которой осознаются эти классовые интересы, а классовое сознание можно рассматривать как субъективные процессы, которые придают ментальному выбору форму по отношению к этим интересам и борьбе»1. Правящие классы обычно соглашаются организовать и/или поддерживать институты гражданского контроля как политическую уступку только после продолжительной классовой, экономической, идеологической и политической борьбы. Именно так, например, возник парламент как институт контроля за исполнительной властью в западноевропейских странах. В общем виде гражданский контроль – это восприятие классовых ценностей в контексте существующего политического опыта. Поэтому гражданский контроль всегда появляется как результат политического компромисса и общественного договора между ключевыми и наиболее влиятельными классами.
М. Вебер, придерживаясь в целом антимарксистских взглядов, подчеркивал важность гражданского контроля в общественной жизни. По его мнению, контроль восходит к тем формам социальных действий, которые поддерживаются верой в существование легитимного порядка и рациональной системы жизненного поведения в целом. Вера в легитимность совершенно необходима в капиталистических обществах, поскольку когда прибыли от коммерческих обменов достаточно велики, то политическую или экономическую власть можно в значительной степени использовать для подавления конкуренции и свободного развития гражданского общества. Чтобы этого не происходило, на Западе сложилась уникальная система воспроизводства духовных и этических ценностей в виде систематизированной рациональной производственной этики, которую М. Вебер назвал «духом капитализма». М. Вебер указывал на этическую противоположность капитализма и всех некапиталистических или традиционных обществ, а также западных и незападных систем ценностных ориентаций. Аскетичность протестантизма и сформированной протестантами картины мира послужила интернализированной основой системы внутреннего контроля, что впоследствии привело к развитию капитализма и ускоренной модернизации западных протестантских государств. Капитализм – это уникальное историческое явле -ние. Развитие капитализма определялось именно существованием не внешних по отношению к индивиду контролирующих норм, навязанных, предписанных или октроированных государственными властями, которые осуществляют деятельность по социальному контролю, а внутренних (т.е. нравственных и духовных) мотивов, побуждающих его к занятиям рациональной хозяйственной деятельностью в условиях «рациональной организации свободного труда», ориентированной не на удовлетворение непосредственных потребностей, а на саморазвитие и соответствующий контроль.
Последователи М. Вебера объясняли возникновение капитализма также наличием высокого уровня конкуренции, развитием экономических организаций и укреплением государственных институтов; значимой ролью воз никновения, определения и охраны прав собственности; авто номией гражданских организаций; переходом от персонифицированного к обезличенному обмену.
Другой известный ученый XIX в. Э. Дюркгейм, придерживаясь радикального антиредукционизма в изучении социальных явлений и подчеркивая роль социальной солидарности, рассматривал возникновение институтов гражданского контроля как результат профессиональной дифференциации общества. С его точки зрения, они являются продуктом «коллективного сознания», создаваемого и поддерживаемого через ритуальные действия. Общественный контроль (в особенности то, что последователи Э. Дюркгейма назвали «терапевтическим социальным контролем») «смягчает» борьбу за существование в усложненных социальных образованиях. В этом смысле он имманентно присущ обществу.
В отличие от структурного функционализма, который объяснял гражданский контроль с точки зрения функциональных категорий и необходимости поддержания равновесия общественных систем, неоинституционалисты указывают на институ- циональную природу контроля, образующегося в процессе индивидуальных вза-имодействий одних общественных субъ -ектов с другими. Так, Д. Хоманс указы -вает: «Все человеческие институты явля-ются продуктами процессов историче ского изменения. Располагая достаточной фактической информацией (которой мы не располагаем) и пытаясь использовать основные предпосылки нашей не усто-явшейся дедуктивной системы, мы обна руживаем постулаты не о взаимоотноше-ниях институтов, как в структурном типе объяснения, и не об условиях выживания обществ, как в функциональном типе объ яснения, но <^> постулаты о поведении человека как человека»1.
Гражданский контроль в рамках неоин -ституционализма определяется как сеть взаимосвязанных правил и поведенческих норм, управляющих отношениями кон троля, надзора и мониторинга и ограни чивающих их. Такие правила составляют формальные и неформальные ограниче ния, создающие набор социальных воз можностей для общественных субъектов, снижая таким образом уровень неопреде ленности в человеческих взаимоотноше ниях. Правила гражданского контроля определяют общие пределы легитимных действий таким же образом, каким пра вила игры определяют игровую структуру, в границах которой действующие лица имеют право преследовать свои стратеги ческие цели, используя модели, обладаю щие специфическими ролями и статусным положением. Только соблюдение в обще ственном дискурсе правил и институтов гражданского контроля может привести к ситуации, когда «никто из игроков не сможет получить большее преимущество, если он применит альтернативную страте гию, отличающуюся от стратегий других игроков»2. Подобная институциональная ситуация стабилизирует общество.
По мнению С.Г. Кирдиной, правила и институты гражданского контроля могут быть двух отличающихся между собой видов, обозначенных ею как X- и Y-матрицы. Эти матрицы соответствуют восточной и западной типам цивилиза ций, поскольку каждому обществу на про -тяжении его цивилизационного и истори ческого развития присуща единственная институциональная матрица. В частности, для России — это Х - матрица восточного типа, как и для большинства стран Азии и Латинской Америки, а для большин-ства стран Европы, Америки и др. — это Y- матрица3.
Политические философы Ю. Хабермас и М. Постон подходят к проблеме контроля с других методологических позиций. По их мнению, гражданский контроль состав ляет важнейшую часть современной демо кратии, ее коммуникативное пространство и основу профессионального дискурса и критического анализа существующей социальной системы. Полезность кон -троля для общественного мира не сводима к количеству затрачиваемых на его под держание материальных ресурсов и благ, поскольку контроль — это общественное благо и общий ресурс. Это как витамины в пище, которые незаметны, но без которых человек умирает. Однако проблема граж-данского контроля в условиях информа ционной революции и соответствующей модификации либеральных ценностей и идей еще фактически не исследована.
Многообразие современных западных подходов к определению гражданского контроля не означает, что некоторые из них ошибочные, а некоторые — правиль ные. Все представления о гражданском контроле в условиях конкретной социо культурной реальности обладают некото рой валидностью. Так, важное теоретико методологическое значение имеют ис следования административных аспектов контроля, а также вопросов исторической эволюции гражданского контроля в отдельных странах, которыми занимаются западные ученые Дж. Бенижер, Д. Блэк, С. Боем, Дж. Джиббс, Г.В. Холлман, Р. Элликсон, М. Яновитц и др.
Российская философская литература, в противоположность западному дис -курсу, вращается вокруг идеологических и исторических аспектов гражданского контроля. Впервые вопросы отноше ний российского государства, государст венной власти и общества были актуали зированы в ходе нескольких десятилетий развития русской философии в конце XIX – начале XX вв. в работах Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, К.Н. Леонтьева, В.В. Розанова, В.С. Соловьева, Г.П. Федотова, П.А. Флоренского, С.Л. Франка, А.С. Хомякова, Л.А. Шестова и др. Идеи перечисленных русских мыслителей о взаимосвязанности государственного и общественного начала в российской цивилизационной истории повлияли на формирование современного философского мировоззрения российских исследователей.
В России проблематика гражданского контроля снова актуализировалась в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в ходе распада социалистического варианта государственного и общественного устройства. При этом нельзя утверждать, как это делают современные либералы, что в Советском государстве гражданский контроль полностью отсутствовал и что все независимые от государства общественные институты, организации и группы были полностью контролируемы, поскольку ряд общественных институтов сохранял некоторую степень гражданской автономии (например, религиозные организации). Такие общественные институты отражали в своей деятельности общесоциальные и гуманитарные ценности и идеи, означающие в повседневной жизни верность морали и историческим традициям общества. В то же время нельзя не признать, что именно слабость гражданских институтов советского периода после распада идеологических и государственных структур привела к фактической дезинтеграции советской общественной системы.
Цивилизационные аспекты гражданского контроля в контексте социальных процессов формирования гражданского общества в России рассматривают В.В. Витюк, К.С. Гаджиев, Ю. Жилина, Ю.М. Резник, Ю.А. Красин, С.П. Перегудов, Л.М. Романенко, А.Ю. Сунгуров и др. Социологические, электоральные и политико-правовые аспекты гражданского контроля изучают И.В. Анциферова, Ю.Л. Воробьев, Б.С. Гладарев, А.В. Доскальчук, Г.И. Козырев, Д.В. Клепиков и др.
В настоящее время в России продолжается обсуждение идеи нового общественного договора, который мог бы облегчить выход из финансового и экономического кризиса. Но у политических и экономических элит пока не особенно чувствуется стремление к заключению такого договора, который в той или иной форме должен заключать в себе и положения о гражданском контроле. Вероятнее всего, еще длительное время гражданский контроль в российском обществе будет носить ситуационный политический характер, а переход на социально-договорные отношения (как в Западной Европе) в сфере гражданского контроля может произойти только при успешном выходе страны из финансового кризиса.
В этом состоят социокультурные различия по сравнению с западными государствами. Как указывал еще А. Грамши, когда на Западе слабеет государство, тут же в общественное пространство выходят гражданские структуры, которые обеспечивают стабильность общества. Во многом причины социальной устойчивости, как указывают коммунитаристы (например, А. Этциони), состоят в том, что неотъемлемой частью любого социального порядка является предъявляемое к гражданам требование посвятить определенное время, средства, энергию и силу достижению каких-то общих целей. И наоборот, государство на Западе, будучи социальным и выполняя функции «ночного сторожа», в кризисные периоды принимает на себя полную ответственность за существование и развитие гражданского общества и укрепление общественных уз.
Процессы формирования полноценной системы гражданского контр оля в условиях трансформационных исторических сдвигов нуждаются в системном социально-философском изучении применительно к конкретной национальной и культурно-исторической реальности, поскольку нерефлексивное и бессистемное перенесение на российскую почву западных норм контроля общественной жизни во многом противоположны и чужды ментальности народов и этносов России.