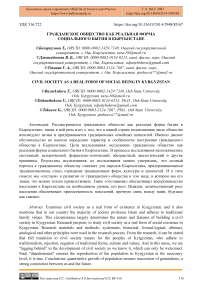Гражданское общество как реальная форма социального бытия в Кыргызстане
Автор: Базаркулова Т., Джанибекова В.Б., Токоева Г.А.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 12 т.8, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается гражданское общество как реальная форма бытия в Кыргызстане, также в ней речь идет о том, что в нашей стране подавляющая часть общества исповедуют ислам и придерживается традиционных семейных ценностей. Именно данное обстоятельство во многом определяет характер и особенности построения гражданского общества в Кыргызстане. Цели исследования: исследовать гражданское общество как реальная форма социального бытия в Кыргызстане. В процессе исследования использовались системный, исторический, формально-логический, абстрактный, аналогический и другие принципы. Результаты исследования: из исследования можно утверждать, что полный переход к гражданскому обществу означает для народов Кыргызстана, придерживающихся традиционализма, отказ, отрицание традиционных форм, культуры и ценностей. И в этом смысле мы «отстаем» в развитии от гражданского общества в том виде, в котором мы его знаем, что можно только приветствовать. Такое «отставание» обеспечивает воспроизводство населения в Кыргызстане на необходимом уровне, его рост. Выводы: количественный рост населения обеспечивает преемственность поколений, прочную связь между нами, будущее как таковое.
Гражданское общество, бытие, идеология, ценность, народ, динамика, государство, свобода, социальная норма, личность
Короткий адрес: https://sciup.org/14126045
IDR: 14126045 | УДК: 316.722 | DOI: 10.33619/2414-2948/85/67
Текст научной статьи Гражданское общество как реальная форма социального бытия в Кыргызстане
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 316.722
С распадом Советского Союза и образованием 15 новых государств рухнула и единая хозяйственная система. Но дело этим далеко не ограничилось. Потерпела крах и прежняя коммунистическая идеология и связанная с ней ценностная система. Они были признаны ложными. И поскольку ни один социум не может существовать и нормально функционировать, во всяком случае длительное время, без определенной идеологии и ценностной системы, то в Кыргызстане, как и во всех остальных бывших советских республиках, возник идеологический и ценностный вакуум, который сравнительно быстро был заполнен своего рода идеологической и ценностной смесью, включавшей, помимо прочего, в себя четыре основных компонента: ценности и нормы традиционного общества; идеология, имеющую религиозную основу, и в первую очередь мусульманскую; ценности и идеология, представлявшие собой остатки прежней советской идеологии и системы ценностей; ценности и идеология, тем или иным образом связанные с ценностями и идеологией буржуазного общества, так называемые западные или либеральные ценности. Приверженность конкретных лиц или групп к той или иной идеологии или ценностной системе определялось и определяется этнической принадлежностью, возрастом, местом проживания и другими параметрами, и чертами.
В настоящее время наибольшую по численности группу составляют лица, придерживавшиеся традиционных ценностей. Следует отметить, что к ней относятся не только кыргызы, но и узбеки, являющиеся на данный момент вторым по численности в республике этносом, а также этнические группы, исповедующие ислам. Именно данное обстоятельство во многом определяет характер и особенности построения гражданского общества в Кыргызстане, как и сам характер и особенности самого гражданского общества, а также наличие в нем многих традиционных элементов, что само по себе входит в противоречие с природой гражданского общества. Мы имеем в виду ту основополагающую особенность гражданского общества, на которую указывали в первой главе нашего исследования: оно возникло и развивалось как антипод традиционного общества и по своей природе противоположно ему. Приведем в данной связи мысль Г. Гегеля, что гражданское общество «разрывает узы семьи как рода, каждый самостоятелен, тем самым значение семейных уз принижается. При патриархальных отношениях семьи не обладают такой самостоятельностью, они сохраняют родственные связи со всем родом; в гражданском обществе каждая семья самостоятельна, зависит только от самой себя, сама добывает средства своего существования. Свобода в этом аспекте является величайшим принципом гражданского общества» [1].
Имея в виду данную мысль, которая не противоречит истине, можно утверждать, что полный переход к гражданскому обществу означает для народов Кыргызстана, придерживающихся традиционализма, отказ, отрицание традиционных форм, культуры и ценностей. Разумеется, не тотальное отрицание, но по многим чертам, параметрам, причем принципиальным чертам. Г. Гегель вполне прав, когда утверждает, что гражданское общество «разрывает узы семьи как рода, … тем самым значение семейных уз принижается». И он так же прав, указывая, что «в гражданском обществе каждая семья самостоятельна, зависит только от самой себя, сама добывает средства своего существования». Однако его утверждение, что свобода «в этом аспекте является величайшим принципом гражданского общества», не выглядит столь же бесспорной и очевидной, как два предшествующих утверждения. Поясним, что мы имеем в виду. При всей своей гениальности, Г. Гегель, который жил в эпоху, когда в Германии традиционные ценности и отношения были еще очень сильны, не мог предположить, представить себе, к чему может привести идея свободы, будучи абсолютизированная и доведенная до своего логического конца. В настоящее время в большинстве высокоразвитых государств наблюдается, по сути, деградация института семьи. Одним из прямых следствий этой деградация является вымирание, причем в буквальном смысле, подавляющего большинства европейских народов, вызванное низкой рождаемостью, не способной обеспечить даже простого воспроизводства населения. Причем чем выше уровень жизнь в той или иной европейской стране, тем быстрее там скорость вымирания. Европейские страны не являются в этом отношении уникальными. Отрицательный прирост наблюдается уже несколько десятилетий в Японии. В Южной Корее, несмотря на то, что там наблюдается еще положительная динамика, тем не менее, существует четкая тенденция снижения прироста населения. Можно, конечно, возразить, что обусловлено это не природой гражданского общества как такового, а уровнем жизни в стране, когда чем выше этот уровень, тем меньше уровень рождаемости. Это вполне соответствует истине. Действительно существует такая закономерность. Однако это вовсе не снимает ответственности с гражданского общества в том смысле, что в самой его природе заложено стремление семьи, которая оторвалась патриархальных отношений и «зависит только от самой себя, сама добывает средства своего существования», быть самостоятельной. Именно это стремление семьи быть самостоятельной наряду с реальной возможностью добиться самостоятельности, говоря словами Г. Гегеля, «разрывает узы семьи как рода, … тем самым значение семейных уз принижается» [1].
В процессе исследования использовались системный, исторический, формальнологический, абстрактный, аналогический и другие принципы. Система родства в гражданском постоянно оттесняются в сторону, то вместе с ней с необходимостью уходят в тень и прежняя ценностная система, основывающаяся на коллективистских ценностях и принципах. Мы также указывали, что гражданское общество по своей природе имеет четко выраженный эгоистичный характер. Г. Гегель, указывая на то, что гражданское общество есть «система всесторонней зависимости; эгоистическая цель может быть достигнута, обеспечена только в этой взаимосвязи» [1].
Однако такая взаимосвязь, пронизанная необходимостью и целесообразностью, не только не отменяет эгоистическую и индивидуалистическую природу гражданского общества, а, напротив, лишний раз подчеркивает. Стремление граждан довести свою независимость от государства до максимально возможного предела может поставить государство в весьма невыгодное положение по отношению к обществу. Но от этого начинает страдать в конечном счете не только государство, но и само общество, поскольку государство начинает отстраняться от своих прямых обязанностей и перестает выполнять ряд своих важных функций. Мы можем наблюдать в настоящее время, как в ряде европейских государств, институты государственной власти фактически не могут обеспечить безопасность своих граждан.
Свобода и права личности в государстве, в котором гражданское общество получило свое высшее развитие, могут оказаться, как показывает практика, выше долгосрочных интересов самого государства. Мы имеем в виду, в частности, тот факт, что во всех государствах Европейского Союза узаконены однополые браки на том основании, что права и свободы меньшинств (в данном случае — сексуальных) должны быть гарантированы законом и защищены государством. В условиях, когда эти государства испытывают серьезные демографические проблемы, такая мера выглядит весьма неразумной и сомнительной с нравственной точки зрения. Очевидно, что узаконения однополых браков, по понятным причинам, наносит только ущерб и без того низкой рождаемости, не говоря уже о том, что косвенным образом нарушаются права традиционной семьи, а также детей, которые в Европе могут быть усыновлены нетрадиционными семьями.
С февраля 2011 года в США в заявлениях на получение паспорта были внесены изменения, в соответствии с которыми в графе о родителях слова «отец» и «мать» стали заменяться на «родитель 1» и «родитель 2». Как было сказано в разъяснениях, которые дал Госдепартамент, «эти улучшения сделаны, чтобы гарантировать нейтральное обозначение пола родителей ребенка и в знак признания различных типов семьи». Дженнифер Крайслер, возглавляющая американский «Совет за равенство семей», мотивировала данную меру тем, что «замена терминов отец и мать на более глобальный термин «родитель» позволит многим различным типам семей обращаться за паспортами для своих детей без чувства, будто государство не признает их семьями» [2].
На сегодняшний день только в США в однополых семьях воспитывается около 300 тысяч детей. Однако, по прогнозам специалистов, уже в близком будущем количество их должно возрасти до 1 миллиона детей [2].
Страны Запада не ограничиваются тем, что легализовали у себя однополые браки. Под различными предлогами, теми или иными способами и в разной форме, к примеру, через НПО, они пытаются оказать давление на руководство государств, в которых, по их мнению, нарушаются права сексуальных меньшинств, с целью легализации так называемых ЛГБТ-сообществ. Уточним, что ЛГБТ — это аббревиатура, возникшая на английском языке, — LGBT, которая расшифровывается следующим образом: Lesbian (лесбиянка) Gay (гей) Bisexual (бисексуал) Transgender (трансгендер). В традиционной системе ценностей первые три группы оцениваются как формы извращения, отклонения от природной и социальной нормы, а четвертая группа — несовпадение гендерной идентичности – как отклонение от природной психологической нормы.
В Кыргызстане подавляющая часть общества придерживается традиционных семейных ценностей. И в этом смысле мы «отстаем» в развитии от гражданского общества в том виде, в котором мы его знаем, что можно только приветствовать. Такое «отставание» обеспечивает воспроизводство населения в Кыргызстане на необходимом уровне, его рост. В свою очередь количественный рост населения обеспечивает преемственность поколений, прочную связь между нами, будущее как таковое [3].
В настоящее время в гуманитарной науке существует устойчивое мнение, что гражданское общество представляет собой безупречный образец общественно-политического устройства. Вероятно, с формальной точки зрения так оно есть. Но только с формальной. Иное дело — реальное воплощение идеи гражданского общества. Здесь могут возникнуть и, как это показывает практика, возникает множество проблем, иногда совершенно непредвиденного характера.
Само по себе гражданское общество представляет собой сферу самостоятельного проявления свободных граждан, добровольно объединенные в некоммерческие ассоциации и организации, огражденные от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти и бизнеса. Желание граждан оградить себя от вмешательства и произвольной регламентации вполне естественно, и их действия, направленные на реализацию данного желания, если они осуществляются в рамках закона, могут только приветствоваться. А такие атрибутивные черты гражданского общества, как наличие демократии в социальной сфере, правовая защищенность граждан, высокий образовательный уровень, высокая гражданская активность населения, обеспечение прав и свободы человека, самоуправление и др., сами по себе являются социально-политическим идеалом, к которому не только разумно, но и необходимо стремиться.
Однако такая необходимая черта гражданского общества, как конкуренция образующих его структур и различных групп людей, воплощаемая в повседневной жизни в состоянии приводить к совершенно непредвиденным результатам, которые приемлемы для одних социумов и совершенно неприемлемы для других, что обусловлено наличием реальных культурных и ментальных отличий у разных народов. В таких условиях, учитывая многие позитивные черты гражданского общества, а также характер научно-технического прогресса, можно говорить о комбинировании исконных культурных черт и основополагающих черт гражданского общества и взаимной адаптации этих черт.
Учитывая общемировые тенденции, обусловленные научно-техническим прогрессом, необходимость обеспечения граждан благоустроенной, достойной и безопасной жизнью, Кыргызстан, как и все остальные бывшие советские республики, фактически не может осуществлять свое дальнейшее развитие без движения в сторону демократизации общественной и государственной жизни и строительства гражданского общества, но, учитывая вышесказанное, вдумчивое строительство, которое предполагает не безоглядное копирование и заимствование всех форм и проявлений гражданского общества, которые свойственны западной его разновидности. Ошибочно, на наш взгляд, считать западный тип, форму гражданского общества абсолютным образцом, чем-то безупречным, лишенным негативных черт. Данная форма, поскольку Запад все же стоит на более высоком уровне политического, общественно-экономического и научно-технического и технологического развития, может служить в качестве ориентира, направления дальнейшего развития.
После распада СССР практически все бывшие советские республики взяли курс на строительство рыночной экономики или, если вещи называть своими именами, капитализма в его современных формах, которые основываются на либеральных экономических отношениях и ценностях.
В постсоветских республиках у реформаторов сложилось прочное убеждение, что, поскольку социалистическая система хозяйствования не оправдала себя, а развитые капиталистические страны добились серьезных социально-экономических результатов, вполне логично создавать у себя все те же политические, социально-экономические и правовые условия, которые существуют в этих странах. Собственно говоря, непосредственной целью радикальных реформ было решение текущих социальноэкономических проблем, рост экономики, преодоление системного кризиса, возникшего вследствие распада огромной страны, при этом заведомо предполагалось, что это невозможно сделать, не создав предварительно принципиально новых политических, социально-экономических и правовых условий.
Создание полноценного гражданского общества было одним из этих условий. Отрицание всего прежнего опыта, связанного со строительством социалистического общества, стало своеобразной нормой, во всяком случае — в сфере теоретической мысли. Так, У. К. Чиналиев писал следующее: «Естественно, при формировании нового типа социальной организации не могло быть и речи об использовании советского опыта, ведь он… напрочь отрицал возможность и даже необходимость формирования гражданского общества. Не могло быть и речи о возврате к кыргызской традиционности, отягощенной родоплеменными пережитками и традициями. Речь шла о формировании принципиально новой для Кыргызстана организации социума, базирующейся на принципиально новой основе. Но эту основу, обеспечивающую формирование гражданского общества, предстояло еще создать» [4].
С формальной точки зрения У. К. Чиналиев совершенно прав. Однако советский опыт, а вернее, государство не то что бы отрицало возможность и необходимость строительства гражданского общества как такового, а на деле оно отрицало буржуазный его вариант, полагая, что данный вариант заменитель, эрзац реального гражданского общества. И хотя, в целом, это было ошибочное мнение, тем не менее, именно советское государство сделало очень многое в Кыргызстане в плане создания материальных предпосылок и общекультурных условий гражданского общества, которое в советском государстве создавалось как бы в обратном порядке, последовательности. Глубокая методологическая ошибка при оценке наличия гражданского общества в Советском Союзе возникает вследствие излишней политизации данной проблемы. В техническом плане это происходит следующим образом. Берется западный тип гражданского общества, который действительно имел по сравнению с советским типом гражданского общества ряд серьезных преимуществ, и объявляется единственно возможным и, по сути, идеальным. Затем все остальные типы гражданского общества выносятся за скобки гражданских отношений и объявляются несуществующими.
Что касается утверждения У. К. Чиналиева о том, что «не могло быть и речи о возврате к кыргызской традиционности, отягощенной родоплеменными пережитками и традициями», то проблема заключается не в том, чтобы уйти от «традиционности, отягощенной родоплеменными пережитками и традициями» настолько, насколько это возможно, а в том, что сделать это настолько сложно, что возникает вопрос: стоит ли это вообще делать? Реально можно говорить о том, чтобы вписать, адаптировать определенные элементы традиционализма (главным образом – в системе нравственных, морально-этических ценностей) к новым условиям. Категорическое же отрицание их, не учитывая реальное положение вещей и определив их как отягощенные «родоплеменными пережитками и традициями», может дать только отрицательный результат. Трудно не согласится с Дж. Джунушалиевым и В. Плоских, утверждавшими, что огульное отрицание прошлого, в том числе и непреходящих общечеловеческих ценностей, нанесет «непоправимый ущерб нравственным устоям общества», что уже сейчас бездумное желание как можно быстрей усвоить новые ценности и принципы «привело к заметному распространению индивидуализма, пренебрежительному отношению к жизненному опыту и мудрости старших поколений, отказу от близких» [5].
Мораль, нравственность, ценности относятся к феноменам, которые невозможно и опасно менять по своей прихоти и в ускоренном порядке. Совершенно прав был К. Маркс, утверждавший, что «люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые они сами не выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых» [6]. Мы против того, что традиции «всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар». Этот, выражаясь словами К. Маркса, «кошмар» обеспечивает устойчивость социумов, сохраняя их духовный облик, их самость.
Традиционализм в его наиболее архаичных, отживших, неприемлемых формах и проявлениях связан в первую очередь с экономикой, хозяйственной деятельностью народа. Для традиционных обществ характерна аграрная экстенсивная экономика.
Гражданское общество не в состоянии сформироваться и эффективно функционировать в условиях экономического неблагополучия, нестабильности, отсутствия экономического роста, стабильности. В условиях, когда в государстве отсутствует либо на низком уровне пенсионное обеспечение, неразвиты системы образования, здравоохранения и т.д., даже при наличии необходимых законов и политических условий, говорить о гражданском обществе, способного эффективно функционировать только при наличии развитой экономики и относительно высокого уровня жизни, несколько преждевременно. Не говоря уже о том, что экономический облик традиционных обществ определяется сельскохозяйственным производством, а образ жизни — деревенским укладом жизни, в то время как гражданское общество, как мы не раз подчеркивали в предшествующей главе нашего исследования, является продуктом городской культуры и экономики и обусловлено безусловным доминированием городской экономики и форм жизнедеятельности людей. С экономической точки зрения гражданское общество — это безусловное преобладание городской индустрии над сельскохозяйственным производством.
Полный переход к гражданскому обществу означает для народов Кыргызстана, придерживающихся традиционализма, отказ, отрицание традиционных форм, культуры и ценностей. Однако не тотальное отрицание, но по многим чертам, параметрам.
Система родства в гражданском постоянно оттесняются в сторону, то вместе с ней с необходимостью уходят в тень и прежняя ценностная система, основывающаяся на коллективистских ценностях и принципах.
В Кыргызстане подавляющая часть общества придерживается традиционных семейных ценностей. И в этом смысле граждане нашей страны «отстают» в развитии от гражданского общества в том виде, в котором мы его знаем. Такое «отставание» обеспечивает воспроизводство населения в Кыргызстане на необходимом уровне, его рост. В свою очередь количественный рост населения обеспечивает преемственность поколений, прочную связь между нами, будущее как таковое.
Список литературы Гражданское общество как реальная форма социального бытия в Кыргызстане
- Гегель Г. В. Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с.
- Алехина Ю. Американцы и европейцы заменяют родителей цифрами // Комсомольская правда. 2 февраля 2011.
- Эшанкулова Н. А. Сравнительный анализ политической элиты Кыргызстана северного и южного регионов // Гуманитарные проблемы современности. 2009. №10. С. 763-769.
- Чиналиев У. К. Особенности формирования гражданского общества в Киргизской Республике. М., 2001. 88 с.
- Джунушалиев Д., Плоских В. Трайбализм и проблемы развития Кыргызстана // Центральная Азия и Кавказ. 2000. №3 (9). С. 146-155.
- Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. 1962. Т. 8. С. 115-217.