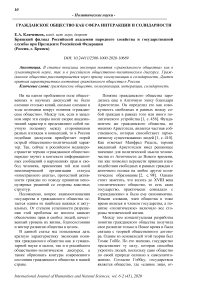Гражданское общество как сфера интеракции и солидарности
Автор: Кляченков Е.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 6-2 (45), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье показана эволюция понятия «гражданского общества» как в гуманитарной науке, так и в российском общественно-политическом дискурсе. Гражданское общество рассматривается через призму коммуникации и солидарности. Дается краткая характеристика состояния гражданского общества в России.
Гражданское общество, коммуникация, интеракция, солидарность
Короткий адрес: https://sciup.org/170190819
IDR: 170190819 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10689
Текст научной статьи Гражданское общество как сфера интеракции и солидарности
Ни на одном проблемном поле общественных и научных дискуссий не было сломано столько копий, сколько сломано в ходе полемики вокруг понятия «гражданское общество». Между тем, если в западном мире эти споры носят скорее академический характер и представляют собой научную полемику между сторонниками разных взглядов и концепций, то в России подобная дискуссия приобретает порой острый общественно-политический характер. Так, сейчас в российском медиапространстве термин «гражданское общество» нередко звучит в контексте информационных сообщений о нарушениях прав и свобод человека, присвоения той или иной некоммерческой организации статуса «иностранного агента», протестной активности граждан по поводу принятия непопулярных решений со стороны властных структур.
Несомненно, вопрос взаимоотношения государства и гражданского общества остается одним из наиболее важных и актуальных. От степени успешности разрешения этой проблемы во многом зависит обеспечение прав и свобод людей, качественный уровень их жизни, благосостояния и вектор развития общества в целом.
В данной статье мы попытаемся дать краткую характеристику эволюции понятия гражданского общества как в гуманитарной науке в целом, так и в российском общественно-политическом дискурсе, а также обрисовать контуры современного состояния гражданского общества в нашей стране.
Понятие гражданского общества зародилось еще в Античную эпоху благодаря Аристотелю. Он определял его как совокупность свободных и равных между собой граждан в рамках того или иного политического устройства [1, с. 456]. Фундаментом же гражданского общества, по мнению Аристотеля, является частная собственность, которая способствует гармоничному существованию людей [1, с. 410]. Как отмечает Манфред Ридель, термин введенный Аристотелем имел решающее значение для политической мысли человечества от Античности до Нового времени, так как позволил перенести принцип взаимодействия свободных и равных граждан с античного полиса на любое другое политическое образование [2, с. 98]. Однако стоит заметить, что вплоть до XVIII века «политическое» общество, то есть само государство, практически совпадало с «гражданским» и было ему синонимично. Иными словами, член общества в тоже время являлся и членом государства, а понятие «политическое» включало все стороны человеческой жизни.
Между тем концептуальная разработка понятия гражданского общества получила свое развитие только в Новое время и была связана с теорией общественного договора. Одним из основателей этой теории был Томас Гоббс. По его мнению, государство представляет ту силу, которая способна укротить людей, поскольку само общество по своей природе склонно к самоуничтожению. Согласно Гоббсу, государством является общество, где «единое лицо, от- ветственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты» [3, с. 133]. Таким образом, на заре периода Нового времени возникает понятие «суверен», что делает общество не столько гражданским, сколько подконтрольным власти. Эта же идея еще раньше появляется у предшественников Гоббса-Никколо Макиавелли и Жана Бодена. В частности, Ж. Боден в своей работе «Шесть книг о государстве» впервые определил понятие суверенитета как основополагающего признака государства, указав, что суверенитет – это возможность правителя «по своему усмотрению распоряжаться имуществом, лицами и всем государством» [4, с. 145]. Иначе говоря, в сферу общественного вторглось государство, что было связано с естественными процессами усиления власти в руках правителя.
Вместе с тем в XVII веке в Европе начали происходить процессы, приведшие к зарождению новых социальных порядков. Эти процессы протекали на фоне буржуазных революций, религиозных войн и перехода общества от аграрной экономики к индустриальному производству. Активнее всего данные изменения происходили в Англии. Поэтому неслучайно, что они оказались в фокусе внимания английских мыслителей – Джона Локка и Адама Смита. Если обратиться к работам Джона Локка, то мы увидим, что, в отличие от своих предшественников, он дает преимущество обществу, а не государству. В своем труде «Два трактата о правлении» английский философ отмечает, что «абсолютная власть, у кого бы она ни находилась, весьма далека от того, чтобы быть видом гражданского общества; она настолько же несовместима с ним, как рабство с собственностью» [5, с. 365]. В своей книге «Возвращение Левиафана» М. Ямпольский полагает, что английские мыслители при помощи понятия «гражданское общество» рассматривали развитие человеческого общества, которое вырабатывало приемы защиты частной собственности, что позво- ляло мирно уживаться друг с другом [6, с. 337]. Эту безопасность, согласно замыслу теоретиков раннего либерализма, должен был защищать «ночной сторож» – государство. По мнению М. Ямпольского, гражданское общество начинает возникать на пересечении двух противоречивых тенденций – во-первых, уход из публичной сферы и упор на субъективность, а во-вторых, жажда политической активности и соучастия в публичной сфере [6, с. 451].
В европейской либеральной традиции Нового времени понятие «гражданское общество» все больше переставало отождествляться с государством. Весьма примечательны по этому поводу размышления американского политика и философа Томаса Пейна. Он писал о том, что некоторые авторы настолько смешали термины «общество» и «правительство», что между ними не осталось почти никакого различия, что в корне не верно, поскольку это вещи совершенно разные. По утверждению Т. Пейна, «общество создается нашими потребностями, а правительство – нашими пороками; первое способствует нашему счастью положительно, объединяя наши благие порывы, второе же - отрицательно, обуздывая наши пороки» [7, с. 22].
В том же направлении мыслил французский социолог Алексис де Токвиль, утверждая, что основой гражданского общества являются разнообразные гражданские ассоциации, которые призваны решать проблемы, с которыми не может справиться государство. В своей книге «Демократия в Америке» А. де Токвиль указывает на то, что в демократических странах умение создавать объединения является первоосновой общественной жизни, а прогресс всех остальных ее сторон зависит именно от прогресса в этой области [8, с. 381].
Г.В.Ф. Гегель рассматривал гражданское общество как ступень развития общества от семьи к государству, полагая, что его становление наступает позднее, чем появление государства. По мнению философа, в гражданском обществе каждый для себя цель, однако без соотношения с другими человек не может достигнуть всего объема своих целей [9, с. 228]. Последова- тель идей Гегеля, русский правовед Б.Н. Чичерин видел в гражданском обществе систему частных отношений между лицами. Так, в своем труде «Философия права» мыслитель пишет, что гражданское общество представляет собой совокупность частных отношений между лицами, управляемыми гражданским или частным правом [10, с. 202].
На протяжении XVIII-XIX вв. дефиниция гражданского общества неоднократно менялась, что нередко происходило под влиянием крупных политических событий в Европе, в частности революций 1789 и 1848 гг. Например, левая политическая традиция сделала термин синонимом «буржуазного общества».
Постепенно формировалась идея, которая подразумевала определение категории гражданского общества вне всякой связи с государством. Примечательна в этом отношении мысль А. Грамши, который считал, что отождествление индивида с государством является «пустословием», указывая на отсутствие «ясного изложения концепции государства, а также различий в ней между гражданским обществом и обществом политическим, между диктатурой и гегемонией и т.д.» [11, с. 318].
В первой половине XX века понятие «гражданское общество» постепенно вышло из употребления в европейском общественном и научном дискурсе и утратило свою актуальность. Все сказанное говорит о том, что в разные исторические периоды научные представления о гражданском обществе претерпевали постоянные изменения, появлялись разные взгляды на содержание и структуру данного понятия. Менялись социальные и политические практики, связанные с реализацией идеи гражданского общества.
Во второй половине XX столетия понятие «гражданское общество» получило новое рождение. Во многом это было связано с общественно-политическими событиями в Советском Союзе и Восточной Европе в целом. Причем концептуально идея гражданского общества в социалистическом лагере, по мнению профессора Колумбийского университета Э. Арато, принадлежала неомарксистам. Обрушившись с крити- кой на авторитарные социалистические режимы, они подразумевали в концепции гражданского общества идею самоорганизации и реконструкции социального взаимодействия вне института государства, а также апелляции к независимой публичной сфере минуя всякую официальную [12, с. 48].
В отечественной общественнополитической сфере о гражданском обществе начали говорить в годы перестройки. Концептуально представления о нем были схожи с теми, которые использовали неомарксисты в Восточной Европе, то есть под гражданским обществом понималась автономная от государства и самостоятельно развивающаяся сфера. В известном смысле, наиболее ярким носителем этих идей стало массовое политическое движение «Демократическая Россия».
Следует отметить, что исследуя проблему гражданского общества, многие российские мыслители традиционно делают опору на современную концепцию канадского философа Ч. Тэйлора, который выделил два подхода в рассмотрении данного вопроса. Первым подходом является так называемая L-традиция, восходящая к воззрениям Дж. Локка и названная так по первой букве его фамилии. Эта традиция рассматривает гражданское общество как этическое сообщество, которое живет по естественным законам и вне политики. Такое общество появилось раньше государства и первично по отношению к нему. В известном смысле, оно вкусило плоды цивилизации, научилось радоваться общим успехам и ставить в основу решения споров этический подход, а не авторитарные методы. Согласно данной традиции, такое сообщество является более устойчивым, чем государство. Второй подход продолжает взгляды Ш. Монтескье и обозначается, как M-традиция. Эта традиция представляет гражданское общество в качестве совокупности независимых ассоциаций граждан, которые являются посредниками между индивидом и государством. Согласно данному подходу, идея гражданского общества распространяется не на весь социум, а на добровольные ассоциации граждан, которые защищают интересы человека от сильного централизованного государства [13, с. 30-33]. Следует отметить, что представление сторонников M-традиции о гражданском обществе как наборе независимых ассоциаций, выступающих посредниками между индивидом и государством, оказалось более близким к российским дискуссиям на эту тему, нежели L-традиция. Как отмечает О. Хархор-дин, исторически это объясняется тем, что наиболее популярная концепция гражданского общества пришла в Россию в 1980-х годах через восточноевропейские интерпретации, а именно, через попытку истолковать опыт польской «Солидарности» в терминах Грамши [14, с. 80].
Описывая эволюцию термина в постсоветское время, Е.В. Белорукова, отмечает, что в 1990-е годы в России сложилось два понимания гражданского общества. Так, философы, социологи и историки полагали, что на данном историческом этапе существование гражданского общества в России невозможно, что было обусловлено сложившейся исторической традицией и политической культурой. Другое понимание транслировалось активистами многочисленных некоммерческих негосударственных организаций (НКО), которые воспринимали себя в качестве «зародышей» гражданского общества в России 15, с. 60]. Многие НКО развивались при поддержке зарубежных фондов. Задача этих организаций состояла в формировании структур гражданского общества в новой России. Государство же до определенного момента не вмешивалось в деятельность этих организаций.
Изменения произошли в 2000-е годы, когда государство стало активно включаться в сферы, не входившие прежде в зону его влияния. Определенным маркером, который свидетельствовал о том, что власть проявила интерес к проблеме гражданского общества в России и деятельности негосударственных организаций, стало открытие в ноябре 2001 г. Гражданского форума, который был организован усилиями правительственных структур. Гражданский форум в Москве, куда было делегировано порядка пяти тысяч представителей общественных объединений и не- правительственных организаций, стал заметным событием в общественнополитической жизни и возлагал на себя большие надежды. Интерес к этому мероприятию подкрепило присутствие на открытии форума Президента России В. Путина, отметившего, что «невозможно иметь сильное государство, процветающее и преуспевающее общество, если нет хороших отношений партнерства между государством и гражданским обществом». Подчеркивая важную роль государства в налаживании равноправного диалога с обществом, было отмечено, что эффективность такого диалога в большей мере зависит от представителей власти и от власти в целом [16].
Между тем трансформация политической системы, особенно усилившаяся в 2004 г., уже не предполагала деятельности тех организаций, которые, выполняя просветительские функции, прививали демократичный подход в вопросах коммуникации общества и государства. В публичном дискурсе понятие гражданского общества стало трактоваться скорее не как совокупность НКО, а как общество в целом. Официальными площадками для выражения интересов гражданского общества стали специальные правительственные организации. В частности, такой площадкой стала Общественная палата Российской Федерации, за которой были закреплены функции регулирования определенных зон общественной жизни. По мнению некоторых экспертов, главным принципом в формировании Общественной палаты стало не избрание представителей из наиболее значительных и авторитетных НКО, а кооптация лояльных власти лидеров общественного мнения [15, с. 61]. Например, итоги первого в истории Общественной палаты интернет-голосования показали, что большинство мест набрали члены лояльных Кремлю организаций [17].
Определенной вехой в эволюции дефиниции гражданского общества в России стали массовые политические протесты 2011-2012 гг., прошедшие в Москве и других регионах страны. В некоторой степени в это время вновь актуализировалась перестроечная идея демократизации политиче- ского режима. Однако в отличие от идеи противостояния авторитарному государству, в этих событиях превалировала идея борьбы за гражданские права.
Вероятно, рост общественной активности граждан был вызван целым рядом накопившихся предпосылок: произвол чиновников и сотрудников правоохранительных органов, высокий уровень коррупции, огромная дистанция между властью и обществом, невозможность защитить свои интересы в суде, рост чувства неуверенности в завтрашнем дне на фоне экономического кризиса. Разочарование от так называемой политической «рокировки» тандема 24 сентября 2011 г. на съезде «Единой России», и возмущение независимых наблюдателей предполагаемыми фактами нарушений парламентских выборах 4 декабря 2011 г., вылились в многотысячные акции протеста «за честные выборы» в столице и других крупных российских городах. Надо полагать, что в основе протеста лежали не столько сами нарушения на выборах, сколько недовольство исключением граждан из сферы принятия важных политических решений и слабый уровень коммуникации власти с обществом.
По оценкам экспертов социальная база протестов 2011-2012 гг. была довольно ограниченной. Основу актива протестующих составили молодые представители зарождающегося среднего класса общества, которые были свободны от старых патримониальных традиций зависимости от государства и требовали уважения к себе как к гражданам [18, с. 60]. Думается, что феномен протестов 2011-2012 гг., названный в прессе движением «рассерженных горожан», справедливо можно считать проявлением гражданской активности населения.
Вслед за активизацией протестной активности граждан последовало ужесточение законодательства (закон «Об иностранных агентах», поправки в законы «О государственной измене», «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», поправки, касающиеся регулирования интернет-контента, возвращение статьи «О клевете» в УК РФ). Так, поправки в законодательство о некоммерческих организациях обязали НКО, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью», официально регистрироваться в качестве «иностранных агентов». Однако сам термин «иностранный агент» в историческом контексте России многими недвусмысленно воспринимается в негативной коннотации. Можно предположить, что те, кто разрабатывал такой закон, хотел дискредитировать гражданские организации, использующие зарубежное финансирование. Помимо этого, поправки в законодательство о митингах и демонстрациях резко увеличили финансовые санкции за нарушение условий организации массовых мероприятий.
Таким образом, введение ограничительного законодательства, а также судебные процессы активистов движения (например, так называемое «болотное дело») значительно сузило легитимное пространство коллективного действия и иных коммуникационных практик, увеличивая риски для гражданской активности населения. Как отметил в своем докладе Д. Волков, массовые политические протесты 20112012 гг. ярко проявили внутренние противоречия российской политической системы, о чем раньше можно было судить только по эпизодическим вспышкам общественного недовольства [19, с. 183].
Итак, каково же положение российского гражданского общества в России в настоящий момент, и какой подход к пониманию его сущности наиболее приемлем и актуален в современных отечественных реалиях?
Рассуждения о гражданском обществе в России в последние годы часто напоминали парадоксы древнегреческого философа Зенона о предмете, который движется, но одновременно находится в состоянии покоя. Действительно, порой кажется, что гражданское общество пребывает в некоем состоянии неясности и неопределенности. Некоторые исследователи вовсе указывали на то, что для современного российского общества скорее характерно состояние атомизации, нежели рост гражданской активности.
Если руководствоваться официальной статистикой, посвященной деятельности НКО в России, то о динамике развития гражданского общества может сложиться иное впечатление. Так, последние данные, представленные в докладе Общественной палаты Российской Федерации по итогам 2018 года, говорят если не о росте количества НКО за последнее время, то, по крайней мере, об устойчивом развитии этого сектора [20]. В частности, в 2018 г. в России было зарегистрировано 219,5 тыс. НКО. Однако внушительное количество некоммерческих организаций контрастирует с невысокой информированностью граждан об их деятельности. Кроме того, нельзя не отметить и уже традиционный низкий уровень доверия граждан к общественным институтам в России. Так, например, по данным рейтинга исследовательской компании «Edelman», в 2019 г. Россия заняла последнее место по общему уровню доверия и находится в конце рейтинга в большинстве разделов доклада [21].
В связи с этим, рассматривать проблему состояния гражданского общества в России, фокусируя внимание на деятельности НКО, нам кажется не совсем корректным. Более актуальным подходом может служить изучение положения гражданского общества через призму гражданской активности населения, которая чаще всего не является привязанной к каким-то институтам. В таком случае более подходящим определением гражданского общества, как нам думается, станет дефиниция, предложенная Дж. Коэном и Э. Арато. Под «гражданским обществом» они понимают сферу интеракции между экономикой и государством, состоящую, в первую очередь, из сфер наиболее близкого общения (в частности, семью), объединений (в частности, добровольных), социальных движений и различных форм публичной коммуникации [22, с. 7]. Таким образом, гражданское общество может проявляться через пространство самоорганизации и коммуникации граждан. Сами же некоммерческие организации в этом отношении нам интересны постольку, поскольку они способы формировать это пространство.
Продолжая развивать эту логику, необходимо сделать акцент на методологическом подходе Б.Г. Капустина. Во-первых, исследователь рассматривает гражданское общество не в качестве совокупности формальных институтов, а как некое событие. Как отмечает автор, «политическое гражданское общество как форма производства политической гражданственности есть не постоянный структурный компонент современного общества в отличие государства и рынка, а возникающая и исчезающая характеристика способа его деятельного самопреобразования» [23, с. 20]. Во-вторых, по мнению Б.Г. Капустина, гражданское общество может быть интерпретировано, как «способность современных обществ в определенных исторических ситуациях осуществлять воссоединение буржуа и гражданина для достижения целей, трактуемых данным обществом как общее благо». Под определенными историческими ситуациями автор подразумевает, прежде всего, разного рода кризисные моменты. По его мнению, гражданственность, является возможностью, которую можно реализовать в условиях разворачивающегося кризиса [24].
Исходя из этого подхода, можно сказать, что упомянутое выше движение «рассерженных горожан» как раз было примером не столько проявления протестной активности представителей среднего класса, сколько формирования гражданского сообщества, в котором проявились навыки самоорганизации граждан в отстаивании своих прав и интересов. Причем, главной, объединяющей движение идеей был протест против непроницаемости замкнутой на себя властной политической системы.
Отказываясь от формального определения гражданского общества в России через совокупность некоммерческих организаций, необходимо делать акцент на различных движениях гражданской солидарности. Такие движения носят порой случайный характер и направлены на решения конкретных проблем. К подобным инициативам можно отнести движение обманутых дольщиков, движение автомобилистов, движение в защиту Химкинского ле- са (2007-2012), получившие федеральный резонанс. Однако немало подобных инициатив имеет локальный характер. Так, в 2011-2012 гг. в Брянске развернулось движение против реконструкции исторического «Круглого сквера», расположенного в центре города. Небывалая для спокойного провинциального центра гражданская активность населения объединила архитекторов, историков, журналистов, предпринимателей и всех неравнодушных граждан в деле спасения исторического облика излюбленного места культуры и отдыха, заставив местные органы власти прислушаться к голосу горожан.
Последние два года дали пример появления целого ряда движений «одного требования»: «мусорные протесты» в Подмосковье и протесты в Архангельской области (2018-2019), протесты в Екатеринбурге в защиту сквера (весна 2019), в Ингушетии против соглашения о границе с Чеченской республикой (2018-2019), протесты, связанные с «Делом Ивана Голуно-ва» (июнь 2019), протесты против отказа оппозиционным кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму (июль-август 2019) и некоторые другие акции. Эта гражданская активность демонстрирует возможность коллективной самоорганизации людей для отстаивания своих ценностных идеалов. Особенно примечательной является драматичная ситуация с протестами граждан против строительства мусорного полигона близ ст. Шиес (Архангельская область), которые не прекращаются больше года. Следует отметить, что к движению протеста присоединились активисты из почти 30 общественных объединений соседних регионов, создав в октябре 2019 г. межрегиональную экологическую коалицию «Стоп Шиес» [25].
Протестные акции последних месяцев примечательны реализацией новых социальных практик, которые не использовались ранее. Так, например, во время кампании за освобождение задержанных во время митинга в Москве 10 августа 2019 г., начался сбор подписей от представителей различных профессиональных корпораций: учителей, актеров, историков. Особенно примечательно, что к этой кампании присоединились и священники Русской православной церкви, структуры с известным уровнем закрытости и субординации. Протесты граждан против строительства мусорного полигона в Архангельской области также явили немало новых социальных практик разного характера: от создания палаточного лагеря протестующих до создания музыкальных клипов. Вероятно, появление таких форм общегражданской и корпоративной солидар- ности может служить маркером, свидетельствующим об определенных сдвигах в массовом сознании активной части населения.
Если говорить о гражданском обществе, как о пространстве интеракции и солидарности населения, то нельзя не отметить все более увеличивающуюся роль сети-интернет. Примечательно, что в 2019 г. аудитория интернета впервые сравнялась с аудиторией телевидения, что тем самым создает принципиально новую информационную ситуацию [28]. С этим явлением связан и выход в пространство коммуникации новых лидеров общественного мнения, не связанных с властными структурами. Так, аудитория канала известного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя составляет более 7,6 млн. человек, а официальный канал журналиста Андрея Караулова насчитывает более миллиона подписчиков. В перспективе такая ситуация делает бессмысленным введение коммуникационных запретов на обсуждение тех или иных тем в официальном информационном поле и дает возможность создания альтернативной информационной повест- ки.
Таким образом, рассмотрев эволюцию понятия «гражданского общества» как в гуманитарной науке, так и в российском общественно-политическом дискурсе, мы остановились на социальной активности населения, как наиболее, на наш взгляд, адекватном маркере для измерения состояния гражданского общества в России. Само гражданское общество представляется нам сферой интеракции и солидарности, посредством которой граждане получают возможность отстаивать свои законные права и интересы. Увеличение социальной активности российского общества в последнее время говорит нам об открывающихся перспективах развития гражданского общества в нашей стране.
Список литературы Гражданское общество как сфера интеракции и солидарности
- Аристотель. Политика // Сочинения: в 4-х томах. Т. 4. - М.: Мысль, 1983. - 830 с.
- Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х томах Т. 2. - М.: Новое литературное обозрение, 2014. - 756 с.
- Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Сочинения в 2 томах. Т. 2. - М.: Мысль, 1991. - С. 6-545.
- Боден Ж. Шесть книг о государстве // Антология мировой философии. В 4-х томах. Т. 2. - М.: Мысль, 1970. - С. 144-147.
- Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения: В 3 томах. Т. 3. - М. Мысль, 1988. - С. 135-405.