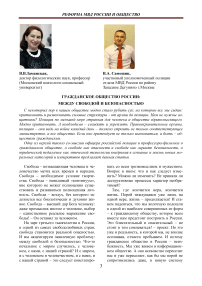Гражданское общество России - между свободой и безопасностью
Автор: Заманская В.В., Самошин В.А.
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Реформа МВД России и общество
Статья в выпуске: 2 (8), 2012 года.
Бесплатный доступ
С некоторых пор в нашем обществе модно стало рубить сук, на котором все мы сидим: критиковать и развенчивать силовые структуры - от армии до полиции. Нам не нужны защитники? Позиция по меньшей мере странная для человека и общества здравомыслящего. Модно критиковать. А необходимо - созидать и укреплять. Правоохранительные органы, полицию - они ведь на войне каждый день - должно строить не только соответствующее министерство, а все общество. Если оно претендует не только именоваться, а быть - обществом гражданским. Одну из версий такого со-мыслия офицера российской полиции и профессора-филолога о гражданском обществе, о свободе как опасности и свободе как гаранте безопасности, о юридической педагогике как этической технологии внедрения в сознание и жизнь новых моральных категорий и императивов предлагает данная статья.
Короткий адрес: https://sciup.org/142197475
IDR: 142197475
Текст научной статьи Гражданское общество России - между свободой и безопасностью
Свобода - возвышающая человека и человечество мечта всех времен и народов. Свобода - необходимое условие творчества. Свобода - невидимый «континуум», вне которого не может полноценно существовать и развиваться полноценная личность. Свобода - воздух, без которого задохнется все биологически и духовно живое. Свобода - высший дар Бога человеку: даже промыслив многое о человеке, выбор - единственное реальное выражение свободы! - Он оставил за человеком.
На заре третьего тысячелетия в России, в одной из самых свободолюбивых стран, свобода становится реальной опасностью. И мы акцентируем заявленную проблему: между свободой и безопасностью. Что-то печальное с миром случилось, с человеком, с нами, с нашей страной? И с миром, и с человеком и человечеством, и с нами, и с нашей страной - это следует констатиро- вать со всем трезвомыслием и мужеством. Вопрос в ином: что и как следует изменить? Можно ли изменить? Не приняли ли деструктивные процессы характер необратимый?
Там, где кончается вера, кончается жизнь. Порой зиждущаяся уже лишь на одной вере, жизнь - продолжается! И станем надеяться, что мы вплотную подошли к одной из наиболее совершенных ее форм - к гражданскому обществу, которое всем вместе нам предстоит построить в России. Это блистательный и спасительный - не стоит в том сомневаться! - проект. Но это уже и реальность, в которой мы, не вполне осознавая, отчасти пребываем. И потому гражданское общество в России - неизбежность. Мы уже живем в информационном обществе. А оно всевластно переселит нас и уже переселяет, как бы мы порой не сопротивлялись даже, в новую систему общественных отношений. Потому - лучше не сопротивляться. Просто - строить. Просто работать, не покладая рук, на новое Отечество. На Россию гражданского общества.
Но гражданское общество - это новая мораль. Ее осознанно и исподволь созидают новая «этическая инженерия» и новые технологии живых общественных отношений. Сложность состоит в том, что все строится и созидается «на марше». Почти век тоталитарного государственного устроения не только не подготовил нас к реалиям демократического общежития, но надолго «купировал» умы, шкалу ценностей, нравственные координаты и индивида, и социума. Сложные перипетии борьбы конформистской-нонконформист-ской морали периода оттепелей-похолоданий второй половины ХХ столетия и вовсе окончательно сдвинули все «межевые знаки» (Н.Бердяев) моральных ценностей. «Разгул демократии» в последние два десятилетия старательно «замутил» нравственное сознание не только склонной к употреблению «адреналиногенных» препаратов части населения, но и теле- и инет-зависимых слоев, да и просто полуграмотной части нашего немалого «электората», как модно ныне маркировать население страны. Картина реальная - и весьма не оптимистичная. Однако самое главное заключается в том, что у нас нет традиций и опыта построения гражданского общества. А те, что имеются (чем было вече новгородское?), мы, как и всю нашу историю, жаль, редко вспоминаем для усвоения уроков ее.
У нас нет опыта построения гражданского общества в России. И потому - мы его обязательно построим!
Россия всегда мыслила парадоксами. Парадоксами жила. Парадоксами выживала. И парадоксами - становилась Великой Державой. И Великой Державой с совершенным гражданским обществом -станет обязательно!
Однако чтобы это со всеми нами случилось, в самое ближайшее время предстоит произвести корректировку всех базовых этических понятий и категорий: осознать их смысл; понять, что нам необходимо, чтобы мы стали гражданским обществом; предложить технологии «работы» нравственных категорий в целях создания гражданского общества.
Вряд ли без такой фазы осмысления и реализации новой «этической инженерии» мы обойдемся. Все «материальные» линии общественных отношений и институтов -от экономики, правосудия, силовых структур до образования, медицины и т.д. - пронизываются «нематериальной», но единственно незыблемой «вертикалью» морали. И не оказались бы наши «глобальные реформы» тщетны, если мы не сделаем ставку на самое необходимое, без чего все социальные и личностно-амбициозные построения рассыпаются: на совершенствование моральных принципов гражданского общества и каждого его индивида.
Есть блистательный опыт созидания свободного общества, демократического государства - Античность. Разумеется, в тех пределах свободы, в коих пребывало человечество на той стадии цивилизации. И поразительным сигналом к тому, что мы уже проходим на новом цивилизационном витке путь, аналогичный греческой античности, является то, что ныне оказались столь востребованными две науки и практики - социальное познание и риторика. Они были самыми действенными и результативными инструментами построения античной демократии. Люди всего лишь учились отстаивать свои права в суде, учились мыслить, красиво и убедительно говорить - решали самые что ни на есть обыденные задачи своей каждодневной жизни. А построили - демократию, образец коей вряд ли превзошли последующие модели государственного устройства. И выпестовала та демократия - Сократа, Демосфена, Платона, Аристотеля! Стоит лишь подчеркнуть, что победила не блистательно глубокомысленная школа софистов Горгия, Протагора, Лисия, которой для достижения выгоды все средства хороши были. Победил в том споре Веков – Сократ, добровольно принявший цикуту! Победил - чтобы мы знали: не все средства хороши, не все априори демократией оправдываются. Хороши и долговечны лишь высоко моральные, этически совершенные, чистые и честные пути к демократии. Если, говорят, история учит, то у Античной демократии этому принципу стоит научиться.
И нам сейчас необходимо именно такое общественное говорение! Результатом его, возможно, станет некий «общественный договор» по содержанию основных моральных понятий и концепций. Без него вряд ли возможно дальнейшее прогрессивное продвижение нашего общества. Истины новой морали, базовые понятия -должны проговариваться общественно. О них надо договариваться. Должны везде, где только возможно, идти общественные дискуссии по морально-этической проблематике. И лучше не в образце развлекательных ТВ-шоу «пусть говорят» и разнообразно-однообразных «барьеров». Этических образцов, как и позитивного посыла, необходимо значительно больше, чтобы они заработали на цели создания гражданского общества. Гражданское общество как систему новых моральных отношений само общество должно «проговорить», «выговорить». Гражданское общество -это услышание всех и каждого в социуме. Страх говорения мы преодолели за годы несовершенной нашей демократии, и это хорошо. Но пока, к сожалению, не поняли, что когда говорить можно, то, возможно, не все нужно говорить. Молчание ведь тоже может быть «риторикой». И умные люди порой охотно таким видом риторики пользуются. И говорят тогда, когда - «не могут молчать». Так с гением, нами миру дарованным, Львом Толстым, было. Уж если сам Толстой говорил только тогда, когда «не мог молчать», то не пристало ли нам хоть изредка - помолчать. Хотя бы в тех местах, где потом многоточие модератором проставляется вместо «изреченного».
Да, гражданское общество - это услышание! Интересы экономические, жизненные цели, возможности материальные всегда были и будут разными. И единственная «точка встречи» мнений и решений - мораль . Невидимо ею «сцепленное» общество невиданно мощным останется при любых бурях. Отсутствие ее в основании общества никакая экономика и полиция не заменят и само себя уничтожающее общество не спасут.
Более того, именно базовые этические понятия без их корректировки в контексте и в интересах гражданского общества будут создавать реальную опасность и инди -виду, и социуму. Неправильно или тенденциозно трактуемые, они будут культивировать агрессивные настроения и «вооружать» разного рода экстремистские группы. А это уже реальная угроза не только для морали, но и для самого общества. Не стоит забывать, что этика - это практическая философия. Спроектирована она может быть в уютных кабинетах ученых. А вот «выход» ее на улицы порой становится триумфальным шествием принципов, весьма от высокой морали далеких. Так что лучше, чтобы эта «практическая философия» заведомо и писалась, и «проигрывалась» в сознании той массой индивидов, которые превратят практическую философию в реальность. Дабы принципиальных разночтений избежать - между теорией и практикой.
И пусть именно мораль, всенародно откорректированные принципы ее, те, что подходят гражданскому обществу как сообществу ярких и самоценных индивидов, приобретут статус некоего «общественного договора». О подобном договоре в иных исторических контекстах и реалиях мечтали Жан Жак Руссо, Европейское Просвещение. Реальность проста: не договоримся, не достигнем такого «общественного договора» всеми доступными путями и средствами, самое совершенное гражданское общество грозит однажды взорваться изнутри. Поистине, «либо найдем общий язык, либо - общую погибель» (Огюст Розеншток-Хюсси).
Мы уже пережили эпоху «великих» деконструкций постмодернистской иронией. Мы уже свергли и обличили классовую мораль. И вряд ли стоит о том печалиться: конформизм калечит душу необратимо. Однако подзадержавшееся постмодернистское «разбрасывание камней» в эпоху, ко- гда явно следует «камни собирать», тоже вчерашний день! Без «советского патриотизма» мы два десятилетия неплохо живем. А без патриотизма - проживем ли? А вот если это базовое понятие морали не упорядочим и не упрочим в сознании подрастающих поколений, то не усвоят ли они из националистических маршей, что истинные «патриоты» лишь тем и занимаются, что форму носа, цвет кожи и кучеря-вость волос «диагностируют», дабы потом декретировать результатом своих «исследований», что «Россия - для русских»? То есть - для них, видимо. Именно подобными «технологиями» базовые понятия морали, которые должны обеспечивать, упрочивать и гарантировать безопасность, превращаются в реальную и воинственную опасность.
Но еще и свидетельствуют о тех глубинных процессах, которые безжалостно пронаблюдал и о коих заблаговременно предупредил во второй половине ХХ века в книге «Разделенное Я» английский экзистенциальный психиатр Р.Лейнг [2. С. 1128; 47-85]: мир постепенно, незаметно и необратимо «развивается» по парадигме всеобщей шизофренизации. И когда человечество осознает свою болезнь, будет поздно, как при любой запущенной болезни, что-либо изменить: деструктивные тенденции, по мнению психиатра, необратимы. Повод для столь угрожающих выводов и наблюдений Лейнгу дал тот факт, что то, что прежде считалось аномалией, постепенно, незаметно и необратимо для нашего сознания становится нормой. А мораль и мышление неразрывны, провиденциально свидетельствовал из начала минувшего столетия русский писатель Л.Н.Андреев в рассказе «Мысль»: разрушение одного неминуемо влечет разрушение другого [1, С. 110-143].
Наши размышления - о свободе как великом даре демократии. О свободе как основании и воздухе гражданского общества. О ее «демократических» «ликах» и реалиях сего дня. А, значит, к сожалению, о свободе - как опасности.
7 марта 2012 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял санк- ции о наказании в виде штрафов за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Нет, он не запретил этим законом гомосексуализм. В конце концов, «каждому свое» и «о вкусах не спорят». Закон - всего лишь! - налагает штрафы за пропаганду гомосексуализма среди детей! Оказывается, документ настолько посягнул на «свободу» гей-лидера, что он подает на губернатора в суд. «Свободолюбцы» всех мастей и расцветок «страдальца» дружным хором поддерживают.
Может быть, Рональд Лейнг подобные «взращивания» новых «норм» и имел в виду, когда писал, что мир незаметно, но верно с ума сходит? Разве - нет? Секс-оригиналов всего лишь и попросили детей не развращать, а они расслышали это как наступление на их свободу. А гарантом свободы детей от разврата в нашем, пока еще полугражданском обществе, кто-то возьмет на себя мужество выступить? Вот губернатор - осмелился... Что же, в таком случае, есть свобода новой России?
Целое общественное движение в защиту «бедных девочек», дипломатично поддержанное Великим диаконом, с собиранием «жертвенных» денег и обильным слезотечением (не путать с мироточением) образовалось и «пикетит» Петровку, 38 который день. А «бедные девочки» из Pussy riot вообще-то всего-навсего на амвоне главного по статусу и многострадальности Храма страны (это на солее, прямо перед входом в алтарь, то есть) панк-молебен исполнили о своем личном отношении к абсолютным большинством граждан страны избранному Президенту. Всего лишь. Ну что здесь такого, в самом деле, повесели-лись-порезвились девочки-несмышле ныши. А их под суд за хулиганство (ст. 213 УК РФ). «Свободолюбцы всея Руси», естественно, кто в слезы, кто в полуцензурную лексику в адрес и патриарха, и Президента: Интернет аж колотит от бури эмоций. И так интересно получается. А почему те же «свободолюбцы», например, у нас -граждан России! - не спросят, интересен ли нам этот «концерт» перед алтарем? Подходит ли нам такой вариант «свободы»? Как мы классифицируем такой вид морального пре- ступления? Желаем ли его повторения? «Свободолюбцы», они вообще от чьего имени «общественное мнение» «обнародуют» в Интернете и на митингах? И - где предмет для дискуссий для просто здравомыслящих (не о верующих речь - их чувствам можно лишь соскорбеть!) людей? На амвоне главного храма страны совершено святотатство. А что, в эпоху побеждающей «демократии» как «парадигмы всеобщей шизофрении» (Лейнг) и это теперь норма? Норма - «свободы»?
Все с чего-либо начинается. С разного, но всегда с малого. С чего-то «малого» когда-то начиналось превращение церквей в клубы (наиболее «благоприятный» вариант!). С чего-то «малого» начиналось срывание крестов с храмов. С чего-то «малого» начинался очень большой - слишком большой для человеческой памяти, чтобы о сотнях тысяч расстрелянных на нем так скоро забыть! - Бутовский полигон в Москве. А то «малое» всегда одно -святотатство, глумление над святынями, моральная разнузданность. «Бедных девочек» пестуя нашим настоем из демагогии на тему ограничения свобод в современной России, не предаем ли мы все сразу: и кресты поверженные, и «глухое» утро, когда все колокола на московских храмах замолчали, и полигон Бутовский? Что ж, воспитывать никогда не поздно. Так вот в качестве «воспитательного мероприятия» нелишне будет для очищения душ «девичьих» не на блины позвать, а в Бутово им хоть однажды «экскурсию» устроить. Да и всем тем, кого по странной их логике, уж слишком от колебаний политического маятника зависящей, вдруг время от времени амнезия настигает, куда ведет «дорога по ту сторону добра и зла» (Ф.Ницше). В Бутово она ведет, в Бутово. И обратной дороги оттуда нет. Все начинается с «малого». И - с незнания собственной истории, с равнодушия, с демагогии. Прежде всего, на тему излюбленной «русской темы» свободы.
Великий русский писатель Ф.М. Достоевский одним из первых предупредил, что «несчастное существо», человек, более всего на свете жаждущее свободы, когда ее получит, не будет знать, как от нее избавиться и «кому ее препоручить». Может быть, он имел в виду, что до свободы - надо дозреть? Быть уже не «несчастным существом», а чем-то гораздо большим, чтобы ею уметь воспользоваться? А когда она достается «несчастным существам», то она и превращается в реальную опасность и угрозу обществу и индивиду и становится прямым антонимом к понятию «безопасность»?
А участие в любой тусовочной бузе за анархию, которая к свободе, вообще-то, никакого отношения не имеет, сегодня, в условиях нашей несовершенной «этической инженерии», еще и ореол мучеников и страдальцев за свободу обеспечивает почти с гарантией! И почему Россия так охотно время от времени бросается на явно не дорогостоящие «уравнения» свободы с бунтом? В русском варианте он всегда и гарантированно - «бессмысленный и беспощадный». Тоже гений предупредил, А.С.Пушкин. Их слушать полезно, они знают, что говорят.
Да, «между свободой и безопасностью»...
А вот как их связать? Как сделать так, чтобы именно свобода была условием - и моральным гарантом! - безопасности и индивида, и гражданского общества?
В апреле 2006 года в Москве прошел Х, юбилейный, Всемирный русский народный собор. В рамках основной его темы «Вера. Человек. Земля. Миссия России в XXI веке» была рассмотрена проблема свободы: ей было посвящено слово-благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и центральный доклад, который сделал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Секулярная европейская концепция свободы, восторжествовавшая в мире с Нового времени, привела к тому, что свобода, не ограниченная ни Богом, ни заповедями, ни совестью, превратилась в путь к вседозволенности - путь в никуда. И широко пропагандируемая ныне свобода во грехе – глубокое заблуждение современного человека, «аберрация зрения» его - это, на са- мом деле, величайшая несвобода: человек становится рабом греха, искаженной «истины». Авторитетный философ нашего времени, нынешний Патриарх, подчеркнул, что сегодня необходимо возрождать ответственность человека за поступки, за его отношение к другому человеку, к обществу, ответственность перед Богом и законом. Ибо, живя во зле, нельзя творить добро: рано или поздно оно обернется злом.
Это церковный вариант видения свободы. В обществе, где ныне немало верующих, его нельзя не учитывать, строя гражданское общество России.
В любом случае, гражданскому обществу России явно понадобится совсем другая свобода. Не бунта, не беспредела, не «морального релятивизма» (лучше и понятнее для русского слуха сказать - моральной расхристанности). Нужна свобода, соответствующая уровню цивилизации, до которого возвысилось человечество к началу третьего тысячелетия. Ведь зачем-то мы этот длинный путь прошли. Не для того же, чтобы к дикости возвратиться или, вправду, в «коллективную шизофрению» впасть.
Необходимо принципиально иное понятие и понимание свободы. Его предложил в книге «Бегство от свободы» Эрих Фромм. Прежде свобода понималась как «свобода от…» (рабства, самодержавия, гнета, неравенства). Теперь человечество подошло к новому «образу» свободы: «свобода чего-либо» (свобода воли, свобода деятельности). В «Догмате о Христе» Фромм напишет: «Человек все больше освобождался от уз природы; он овладевал ее силами до такой степени, о какой нельзя было и мечтать в прежние времена. Люди становились равными; исчезали кастовые и религиозные различия, которые прежде были естественными границами, запрещавшими объединение человечества, и люди учились узнавать друг в друге людей. Мир все больше освобождался от таинственности: человек начинал смотреть на себя объективно, все меньше поддаваясь иллюзиям. Развивалась и политическая свобода... Вершиной этой эволюции поли- тической свободы явилось современное демократическое государство, основанное на принципе равенства людей и равного права каждого участвовать в управлении через выборные представительные органы. При этом предполагается, что каждый человек способен действовать в соответствии с собственными интересами, в то же время имея в виду благо всей нации» [3. С. 265]. И далее: «…необходимо добиться свободы нового типа: такой свободы, которая позволит нам реализовать свою личность, поверить в себя и в жизнь вообще» [4. С. 264].
« Свобода для...» наиболее полного выражения себя как личности, всех своих природных способностей, талантов, сил, возможностей - это и будет свобода гражданского общества. И лишь такая свобода станет единственным убедительным показателем того, что гражданское общество создано. Что оно обеспечивает каждому его индивиду свободу для реализации его потенциала.
А такую - самую сладостную и вполне совпадающую с вечной мечтой человечества о свободе! - свободу индивидууму и социуму еще предстоит и постигать, и осваивать, и «понимать», и в ней обживаться. И лишь она станет истинной свободой гражданского общества, его фундаментом и гарантом свободы как безопасности. Для ее достижения, как и для внедрения в сознание и реальность иных категорий и моральных императивов, понадобятся новые технологии. Примером одной из них является юридическая педагогика.
Гарантом новой свободы для каждого без исключения члена общества должно выступить государство, в том числе, силовые структуры. Изменяется пафос и цели их деятельности. Соответственно Федеральному закону «О полиции» и «Кодексу профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел», правоохранительные органы выполняют функции не только карающие, но воспитующие, основанные на доверительных отношениях и дающие шанс к возрождению личности, оказавшейся на пограничье. Именно юриспруденция должна обеспечить безопасность, а значит, и свободу для людей законопос- лушных. Разве не им свободу и безопасность, прежде всего, должно гарантировать общество? Тем более, гражданское общество?
До сих пор мы сосредоточились по преимуществу на определении свободы как категории этической и на политико-социальных коллизиях существующего понятия свободы, которое не во всем совпадает с принципами гражданского общества. Есть иные, возможно, более важные, грани этого понятия. Продиктованы они спецификой того века, который достался всем нам, обитателям «обезбоженного» ХХ столетия. Рубеж Х1Х-ХХ веков отмечен был научно-технической революцией, последствия которой, в отличие от революций социальных, единственно необратимы, ибо они коренным образом изменили самого человека. Будучи создан по образу и подобию Божию, человек воспользовался своим божественным даром творения. Он преодолел пределы земного притяжения, он осуществил «переоценку всех ценностей» (Ф.Ницше). В результате он утратил «опору вне и в самом себе» (Н.Бердяев), пробудил в собственной психике неуправляемые «первородные хаосы» (Ф.Тютчев, Андрей Белый), отдал свою психику «демонам души», на волю «психической преисподней» (К.Юнг). Стимулом ко всем перечисленным секулярно-разрушительным процессам была жажда свободы. Обретя господство над миром, над природой, человек не уловил тончайшую и хрупкую грань, которая отделяет свободу от одиночества, а одиночество от самой жестокой болезни ХХ столетия - от отчуждения. Отчуждения - от Бога, природы, Другого, самого себя.
Многочисленные «симптомы» этой болезни проявляются в острых состояниях и проступках современного, и особенно, молодого человека. Бродяжничество, непонимание близкими, стремление найти близких по духу и интересам людей, которые помогут ему самоидентифицироваться (часто ими оказываются молодежные субкультуры или тоталитарные секты), наркомания, агрессивность, эпатажное пове- дение и др. Эти мотивы и причины коренятся в трагической специфике самого времени, обусловливают эмоциональные, социальные, психические деформации личности. Дополняются они явными недоработками в воспитании и образовании современного молодого человека. Отнюдь не столь результативно, как следовало бы, на него воздействуют школа, культура, экономика, правовое просвещение. Современных родителей никто не готовит к главной «профессии» их жизни - к воспитанию собственных детей.
Такая личность часто оказывается в поле зрения правоохранительных органов и, конкретно, полицейского. Работу юриста во многом и составляют результаты недоработки иных институтов, систем и подсистем общества: морали, образования, воспитания, экономики и т.д. Поэтому юристу приходится на практике быть философом, психологом, дознавателем, а еще и воспитателем, моралистом, артистом. И просто культурным человеком.
Обнаружить, уличить, наказать - элементарные профессиональные обязанности юриста. За исполнение их он отчитывается перед государством. Но культурный человек сеет вокруг себя мир и добро. Представитель правоохранительных органов обязан быть строгим. Однако деятельность его должна стимулировать личность не к озлоблению, а к покаянию. К осознанию себя, к необходимости пересмотреть себя как личность. Юрист не только наказывает. Он дает шанс быть человеком, стать личностью. Гуманный юрист не с фактом преступления работает, а с человеком. Если установка такова, результат будет конструктивным и для правосудия, и для социума.
В современном обществе полицейский, соответственно новым задачам, проистекающим из Федерального закона «О полиции», не только уличает и наказывает, но выполняет функции социальной и психологической реабилитации. Отнюдь не все субъекты статей административного правонарушения, например, заслуживают наказания. Пресечение и последующее доказывание вины может стать переломным момен- том и даже отправной точкой для реабилитации личности, как психологической, так и социальной. Часто субъектом задержания становится человек, пребывающий на своеобразном «пограничье». От работы юриста зависит, какой выбор сделает оступившийся. Юрист первым застает его на этом пограничье и первым, по сути, фиксирует ту границу, на которой еще не поздно сделать выбор!
Естественно, именно для молодых людей одним из самых притягательных понятий и состояний является свобода. Не случайно различного рода уличные политикотусовочные мероприятия под лозунгами свободы находят активный отклик в молодежной среде и «движущую силу» в лице молодежи. Поиск свободы в личном варианте часто может молодых людей повести по путям, не предсказуемым для родителей, общества, однако глубоко печальных для их дальнейшей судьбы.
Одной из критических групп современного социума являются девушки 14-17 лет. Психологически и физически они взрослеют раньше юношей, стремятся обратить на себя внимание, выделиться из толпы, копируют взрослых в одежде, манерах, поступках (курение, ранняя «личная жизнь»). Так они самоутверждаются. Главным признаком взрослости считается вседозволенность. Таковы мотивы их вызывающего поведения, грубости, агрессивности, стремления доказать свою взрослость более чем пренебрежительным отношением к моральным нормам и способам добывания денег.
Девушка 15 лет, проживающая в САО г. Москвы, была доставлена в правоохранительные органы по достоверной официальной информации в связи с разовым употреблением спиртного в компании молодых людей. Девочка-подросток оказалась в ситуации выбора: станет для нее компания ведущим авторитетом или, сделав вовремя соответствующие выводы, подросток осознает возможность иных приоритетов.
Полицейский и, прежде всего, участковый, кто наиболее приближен к реальной жизни и ее персонам, должен уметь об-
№ 2 (8) 2012
щаться и находить язык взаимопонимания (в подобных ситуациях для профилактической работы) с представителями обоих полов и разных возрастных групп. Он должен быть опытен в организации общения с молодыми людьми. Опытный юрист станет варьировать и сочетать индивидуальные беседы в его рабочем кабинете, на дому, в присутствии родителей и наедине. Он знает, что место встречи, свидетельство родителей или их отсутствие при беседе может дать различный, а порой и противоположный результат. Поведение девушки, к примеру, разительно изменится в присутствии ее компании: она предпочтет браваду, стремясь завоевать дополнительные «бонусы» перед своим окружением.
В присутствии родителей девушка, испытывая страх (гораздо реже в подобных ситуациях молодые люди испытывают стыд), смягчает ответы на заданные вопросы, многое не договаривает, утаивает, отвечает уклончиво, пытается завуалировать правду. Девушка скрыла в присутствии родителей информацию о компании. В ходе индивидуальной беседы выяснился факт приема наркотических препаратов лидерами данной молодежной группы. Сама она, по ее словам, наркотики не пробовала. Однако от родителей правду тщательно скрывала, так как боялась запрета родителей на общение с компанией. Признание подорвет ее авторитет в компании, которым она, следовательно, дорожит, как и самой компанией.
Последний факт полицейского особенно тревожит. Девушка ставит мнение компании на первое место. Ей проще обмануть родителей, чем утратить расположение окружающих ее «доверенных лиц». Авторитет сомнительной компании определяет ее самоидентификацию и приоритеты. Подросток находится на распутье. И потребуются немалые усилия родителей, школы, участкового, чтобы разъяснить всю сложность ситуации, в которой девочка реально оказалась, и помочь сделать правильные выводы. Обязательное условие: выводы девушка должна сделать сама. Задача полицейского-педагога - направить поиск и не выпускать ее судьбу из поля зрения как минимум ближайшие три года. К восемнадцати годам девушки могут «остепениться», успокоиться.
Жизненное разрешение данной ситуации может оказаться весьма неоднозначным и пойти по отнюдь не лучшему «сценарию». Может возникнуть ситуация отторжения на вмешательство в личную жизнь. В итоге подросток закроется от всех. Причиной является испуг (обусловленность его не всегда объяснима). И тогда подросток совершает действия, прямо противоположные заданному положительному направлению.
Вот это и есть юридическая педагогика. Участковый выступает в данной ситуации прежде всего как вдумчивый, грамотный, терпеливый педагог, который ставит своей задачей не уличить девушку в ее проступке. Он стремится понять мотивы, соотнести ее поведение с реакцией окружающих, просчитать «пошагово» варианты поведения подростка - старается помочь человеку, заботится о судьбе пока еще не вполне сознательной личности. Думается, это и есть те приемы, которые -если будут введены в систему работы большей частью правоохранительных органов - не только предотвратят многие преступления и станут реальной профилактикой, но будут непосредственно «работать» на гражданское общество. Доверие, услышание друг друга, профессионализм, забота о другом человеке - тот самый тип отношений, который фигуру полицейского может сделать самой необходимой в обществе. Гражданское общество будет нуждаться в нем как в своем реальном, профессиональном и гуманном защитнике. В рассмотренном случае участковый и стремится обеспечить подростку «свободу для…» будущей нормальной жизни.
Одним из белых пятен в современной социально-психологической ситуации является проблема молодежных субкультур. Именно эти образования в сознании современной молодежи непосредственно материализуют свободу, их стремление быть неподконтрольными взрослым, ощущать себя в своем пространстве.
По наблюдениям участкового, в Москве за последние годы изменились приоритеты и мода в локализации неформальных объединений. Даже дети небедных родителей из центра столицы, которые первыми откликаются на новомодные веяния, в целом «переболели» субкультурными увлечениями. Мало утешает, конечно, что наряду с возрождающейся модой на здоровый образ жизни немалая часть их «заболела» новым увлечением - легкими наркотиками. А вот окраины столицы переживают истинный бум субкультурных веяний - от готов до эмо и неформалов прочих ориентаций.
Субкультурное деление характерно для молодежи, получающей среднее специальное или профессиональное образование. Это самая доступная возможность прорекламировать собственную индивидуальность, идентифицировать себя как личность в равно низких условиях материального благополучия, невысокого уровня интеллекта, более чем скромного места в социуме. Примечательно, что в перечень важнейших обязанностей сотрудника полиции ныне вменен профилактический контроль подучетного элемента категории неформалов.
Отношения социума с отдельными неформальными объединениями и отношения между объединениями складываются не просто. Неприятие и агрессивное отношение со стороны прочих субкультурных образований испытывают готы, которые, возможно, внешним видом, взглядами на жизнь и «байкерскими» повадками провоцируют неприязнь.
Но общество как можно скорее должно насторожить то обстоятельство, что представители неформальных объединений проявляют психическую неадекватность, о чем свидетельствуют малообъяснимые, навязчивые, а в последнее время катастрофически участившиеся случаи покушения на собственную жизнь.
Три года назад 16-летняя девушка из группы эмо, будучи дома одна, порезала себе вены. Случай отнюдь не единичен. Мотивацию поступка она не дала. Сосредоточившись на внутренних страданиях, поступила так, как в таком случае, по ее убеждению, поступают все эмовцы. Рекламу и пропаганду суицидальных исходов как «маркировки» приверженцев этой группы девушка встречала в СМИ, на телеэкране, в социальных сетях. Более внятного объяснения поступку она не дала. То ли не желая рассказать о чем-то потаенном, что составляет «брэнд» группы, то ли не осознавая того, что делает, в чем ей, видимо, было стыдно признаться. Бытовые мотивы сводились к тому, что она хотела напугать близких. Сейчас наш социум в действиях неформальных групп имеет дело с эпидемически множащимися случаями суицида. Однако нет никакой гарантии, что эта прогрессия в какой-то момент по мановению «волшебной палочки» новоявленного «гуру» не приобретет характер пандемический.
В какой мере общество, увлеченное «философией свободы» для гомосексуалистов, рьяно отстаивающее свободу персон, склонных к хулиганским действиям, осмысливает подобные факты? Страшные факты самоубийства детей! Общество, которое изо всех сил решает демографическую проблему! Кто приводит эти факты почти массового уже детского суицида в систему, кто интерпретирует, кто стремится помочь конкретным - смертным ! -людям? И интересуется ли наше общество сегодня, увлекшись «свободными страстями», этими фактами и судьбами вообще?!
Кто интересуется, так это полицейский. Он прибывает на «место происшествия», собирает доказательную базу, определяет «постатейно» состав преступления или отсутствие такового. Он каждый день оказывается «перед лицом» трагедии. Он «здесь и сейчас» осуществляет философскую миссию социального познания доставшегося ему в его времени мира. И на него социальная философия не просто возлагает, а порой откровенно перелагает свои функции. Правоохранитель ведь работает с недоработками других социальных институ- тов. Если бы они, не пренебрегая порой своими функциями, более тщательно выполняли прямые обязанности, юрист, надо полагать, мог бы и без работы остаться.
Приведенные примеры свидетельствуют об исключительной важности в гражданском обществе грамотного, разносторонне подготовленного, гуманистически настроенного юриста. В его функции будут входить все шире и психологическое «сопровождение», и педагогическая помощь тому, кто может прозреть. Для того - чтобы он обязательно прозрел. Такой образ полицейского формирует закон «О полиции».
Юридическая педагогика, которая станет необходимой в условиях гражданского общества, имеет отличия от общей педагогики. Здесь иной предмет изучения и специфический объект воздействия. Здесь другие люди: полицейский работает с «творческими неудачами» различных институтов и систем общества. Особенно значителен объемом «воспитывающей» работы административный процесс. Уголовный процесс имеет дело по преимуществу с преступившими черту законности и права. В административном процессе человек чаще находится на пограничье, он еще пребывает в ситуации выбора. От педагогического мастерства полицейского, которое ориентировано лишь на индивидуальную работу, от философской широты и мудрости, от гуманности сердца напрямую зависит результат: судьба человека, его выбор, его дальнейший путь.
Общая педагогика воспитывает. Юридическая педагогика - дает шанс. И от того, как этот шанс полицейский-педагог организует, спланирует, проведет в каждом конкретном случае абсолютно индивидуально, и зависит, будет ли шанс использован, произойдет ли пересмотр подопечным себя как личности. Зависит его дальнейший путь. Различается психологическое состояние личности «подопечного» в общей педагогике и в юридической. Во втором случае всегда фиксируется стрессовая ситуация, следовательно, наблюдаются иные алгоритмы поведения «воспитуемого».
Общая педагогика, обучая, воспитывает. Юридическая педагогика служит не обучению. В дошкольном учреждении или школе материал, который учащийся «не добрал», не окажет судьбоносного значения на будущее. В юридической педагогике, ситуативной по сути и характеру, чем она аналогична «Ситуативной этике» как области прикладной этики, любой неположительный выход из конкретной ситуации практически гарантированно обернется неиспользованным шансом «вочеловечения» (А.Блок), сломанной судьбой.
Полицейский всегда работает как профессионал! Если полицейский будет хорошим профессионалом, он окажется и хорошим педагогом для граждан. К нему будет больше доверия, в его педагогике будет больше смысла.
Юридическая педагогика - всегда! -экстремальная. И потому от полицейского-педагога требуется знание и тончайшее понимание психики человека. Понимание поведенческих алгоритмов личности - всегда в индивидуальном варианте! - помогает найти опору оступившемуся, а значит, спасает человека в кризисной ситуации.
Гражданскому обществу России весьма скоро понадобится отладить и откорректировать не только понятийный аппарат для собственного этического обоснования, но предстоит подвергнуть пересмотру функциональное содержание и наполнение многих профессиональных и общественных «статусов». Новое функциональное наполнение статуса полицейского, которое просматривается в Федеральном законе «О полиции» и в Кодексе профессиональной этики сотрудника МВД и которое юридическая педагогика конкретизирует и осуществляет, может стать и исключительно продуктивным способом к изменению и перестройке личности самого полицейского. Именно юридическая педагогика в немалой мере способна предупредить и исключить случаи должностных злоупотреблений и даже преступлений, которые произошли в 2012 году в разных городах России и вызвали справедливое негодование в обществе. Однако негодование по поводу злоупотреблений единиц перечеркивает самоотверженное и мужественное служение Закону и Отечеству многих и многих тысяч российских полицейских! Справедливо ли это?
Юридическая педагогика может оказаться реальным шансом не только для подопечного, но и для самого полицейского. Она поможет исключить подобные случаи отступления от должностных этических норм. Юридическая педагогика предполагает частичную переакцентировку в дея -тельности полицейского с сугубо ули-чающе-наказующих функций на воспитательные. Но это постепенно будет «гума-низирующе» перестраивать и личность самого юриста. Ему чрезвычайно полезно почувствовать свое «опекунство» над оступившимся, как это ни покажется на пер -вый взгляд странным, ощутить отеческое отношение к оказавшемуся в беде человеку.
А кто же он, оступившийся либо даже закон преступивший? Да, он в беде оказался и чаще всего сам того не понимает. И когда полицейский осознает, что ему важнейшая обязанность обществом поручена и великая власть дана - возможно, первым глаза человеку раскрыть на его беду, правоохранитель по-иному на задачи своей профессии посмотрит и неминуемо психологически сам станет перестраиваться.
Вспоминается поразительной силы, поучительное для всех признание генерала МВД Асгата Ахметовича Сафарова, в интервью после отставки с поста главы МВД Татарстана: «Давайте сразу расставим все точки над «i»: погибший Назаров — жертва преступления, и здесь не имеет абсолютно никакого значения ни его моральный облик, ни вся его предыдущая жизнь. Так же, как для врача нет разницы, кто перед ним: садист-убийца или герой России, поскольку он спасает человека, так и для правоохранителей жертва — это жертва, а преступники, пусть и в полицейской форме — это преступники». Дорогого стоит этот урок мужественного и неподдельного гуманизма из уст человека, чья судьба столь круто - справедливо ли? -изменилась после трагической казанской истории. Урок высокой «беспристрастно- сти», без которой немыслима профессия полицейского. С нее начинается истинное человеколюбие, без коего тоже эта профессия невозможна.
Забота о человеке - путь очищения и возвышения того, кто заботится, прежде всего и более всего. И неизвестно потому порой, кому забота нужна больше - тому, о ком заботятся, или тому, кто заботится. Юридическая педагогика может стать реальным шансом и способом морального очищения и перестройки самой полиции.
И еще раз процитируем Генерала Сафарова: «То, что преступность среди полицейских существует везде, совершенно не снимает ответственности с нас. Это — проблема, которая есть и с которой нужно постоянно бороться. Если работа предполагает применение насилия к человеку, который не способен тебе ответить на законных основаниях, всегда найдется «слабое звено», не устоявшее перед профессиональной деформацией. Еще раз повторю: необходимы психологический мониторинг и коррекция полицейских, которые должны осуществляться постоянно во время всего срока службы». Они - о том же, о необходимости постоянного поиска путей морального «упрочения» полиции на пользу ей самой как единого монолитного образования и на пользу общества, которому она служит.
Гражданскому обществу необходима гуманная полиция. И оно - вместе с самой полицией - обязано созидать такую полицию. Не перечеркивать мужественное служение абсолютного большинства людей трудной и опасной профессии огульнонегативным отношением и незаслуженно несправедливой оценкой, а вместе с полицией стремиться находить пути созидания той правоохранительной системы, которая жизненно необходима нам всем вместе и каждому в отдельности!
Полицейский и гражданское общество, на первый взгляд, понятия не просто антиномичные, но взаимоисключающие друг друга. Однако и полицейский - фигура реальная в России после 2011 года. И столь же неизбежная реальность для нашего Отечества - гражданское общество. Прин- ципиальное отличие этих двух явлений разве лишь в том, что если первое можно узаконить, декретировать Федеральным законом «О полиции», то второе должно родиться, вызреть, себя основать и обосновать, коренным образом перестроить мораль, отношения всех структур общества, всех его членов. Должно создать новую систему отношений, в которой уже не приказ «сверху» станет основным «двигателем прогресса», а сознательность личности, надежность добросовестных, разумных и честных партнеров, открытых к сотрудничеству и рассчитывающих на другого. Обеспеченность не только результата своего дела, но и дела другого должна стать принципом сотрудничества и согласованности всех звеньев «одного-единого организма» государства и процесса созидания личности и гражданского общества. В таком контексте прежние контрасты не только стираются и даже снимаются вовсе, но перерождаются в систему новых, согласованных между собой структур и «дела-телей»-индивидов.
Мы бы не торопились с оптимистическими выводами о том, что каждый в нашем обществе уже выполняет свои человеческие и гражданские задачи и функции так, как выполнять должен. Но ведь именно этим и отличается гражданское общество от полу-демократического. Гражданское общество останется очередной утопией нашего национального образца «для служебного пользования» в нашем национальном устроении, если каждый член этого общества не примет как должное честное, разумное, прогностическое выполнение своего конкретного дела на своем конкретном месте. Иного не дано. Общество утомилось от беспорядка, грозящего принять новые формы тоталитарного образца: анархия ведь тоже может быть тотальной. А преодолеть инерцию полу-добросовестного отношения к делу, полу-честного исполнения своих обязанностей, полу-разумного планирования результатов своих «деяний» отнюдь не просто в одиночку. Общество и само должно изменяться изнутри, и каждого члена своего «доращивать» до нормальной, функ- ционально оправданной персоны своего организма. По-другому не получится. По-другому - уйдем в очередные полуфанта-стические «отлеты» утопического образца.
Остаются вопросы насущные. Когда все это будет происходить? Кто будет «рождать» гражданское общество? Ведь вот эта, не всегда контролирующая свои эмоции и не всегда подконтрольная масса, отнюдь не всегда деловыми и моральными мотивами движимая, это и есть то самое общество, которому предстоит стать обществом гражданским . Другой - нет. И мечтать о ней не стоит. Тем более не стоит «зачищать» такую массу до какого-то более идеального состояния. Если зачищать начнем, уже с полной гарантией гражданское общество никогда в России не построим: пути и цели построения гражданского общества ни на миг не должны прийти в противоречие. Только демократия, помноженная на порядок, такое общество создаст. Иных путей нет.
Значит, останется одно: не «зачищать», а возрождать, не бежать из «края глухого и грешного» (А.Ахматова), а перерождаться самому и край обновлять. И этот путь предстоит пройти не только тем, бессознательно-легковерным, которых так просто не очень трудовой копейкой в любую толпу «сагитировать». Нет, перерождаться предстоит всем. Гражданское общество это, как никакое иное общество, единый организм. В нем все соотнесено, выверено, задействовано, «наполнено».
Гражданское общество - это общество свободное. Это общество свободных граждан. Общество - граждан своего Отечества. Тех, кто взял на себя великий труд строить светлое общество. И свобода, которая удовлетворит это общество, одна. Свобода позитивно, светло мыслящих и действующих людей. Такую свободу должно созидать, воспитывать, гарантировать гражданское общество каждому его гражданину. Лишь такая свобода будет синонимом и гарантом безопасности.
Свобода - высший гарант безопасности. В гражданском обществе.
Список литературы Гражданское общество России - между свободой и безопасностью
- Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века: Диалоги на границах столетий: учебное пособие. -М.: Флинта; Наука, 2002. -304 с.
- Лейнг Рональд У. Разделенное Я: Экзистенциальное исследование психического здоровья и безумия/пер. с англ. -Киев: Государственная библиотека Украины для юношества, 1995. -320 с.
- Фромм Э. Догмат о Христе. -М.: Олимп, АСТ-ЛДТ, 1998.