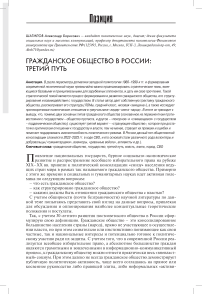Гражданское общество в России: третий путь
Бесплатный доступ
В русле пересмотра догматики западной политологии 1960-1990-х гг. и формирования современной политической науки чрезвычайно важно проанализировать стратегические темы, являющимся базовыми и принципиальными для зарубежных оппонентов, и дать им свое прочтение. Такой стратегической темой является процесс формирования и развития гражданского общества, его структурирования и взаимодействия с государством. В статье автор дает собственную трактовку гражданского общества, рассматривает его структуру (ЛОМы, средний класс, низовая «земщина»), а также исследует противоречивые политические отношения в треугольнике «лидер-элита-народ». В итоге он приходит к выводу, что, помимо двух основных типов гражданского общества (основанное на перманентном противостоянии с государством - общество протеста, и другое - «покорное» и «сливающееся» с государством - подданническое общество), существует третий вариант - «страхующее общество», которое при достаточно критическом отношении к государству и власти, тем не менее, страхует их промахи и ошибки и помогает поддерживать жизнеспособность политического режима. В России данный тип общественной консолидации сложился в 2022-2023 гг. в ходе СВО, и его основой стали различного рода волонтеры и добровольцы («гуманитарщики», военкоры, «диванные войска», активисты и др.).
Гражданское общество, государство, третий путь, власть, элиты, народ, сво
Короткий адрес: https://sciup.org/170199999
IDR: 170199999 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9682
Текст научной статьи Гражданское общество в России: третий путь
П оявление национальных государств, бурное социально-экономическое развитие и распространение всеобщего избирательного права на рубеже ХIХ–ХХ вв. привели к политической консолидации «снизу» населения ведущих стран мира в рамках так называемого гражданского общества. Примерно с этого же времени в социальных и гуманитарных науках идет активная полемика по следующим вопросам:
– что есть гражданское общество?
– как структурировано гражданское общество?
– какими должны быть отношения гражданского общества с властью?
С учетом обширности (почти безграничности) научной литературы по данной теме попытаюсь представить свой взгляд на данные вопросы, привлекая для обсуждения и оппонирования наиболее концептуальные теоретические положения и постулаты.
Так, с учетом 30-летнего развития постсоветского общества в России сформулирую свою дефиницию. Гражданское общество – это консолидированное большинство населения страны (народ), прямо не участвующее в осуществлении власти, но при этом сознательно или инстинктивно понимающее как свои частные, так и национальные интересы и потенциально готовое к политическому участию ради их защиты. С учетом того, что в современной России реализуется всеобщее избирательное право, а абсолютное большинство граждан являются грамотными и вовлеченными в информационно-коммуникативный процесс, к гражданскому обществу можно отнести практически весь «вневласт-ный» социум. При этом далеко не всегда гражданское общество демонстрирует публичную политическую активность, чаще всего соглашаясь на прямое или косвенное руководство либо правящей элиты, либо неформальных «активи- стов» и лидеров общественного мнения (ЛОМ). Повышенный градус активности гражданского общества является девиантным признаком неблагополучия в государстве, поскольку при нормальном течении политических и социальноэкономических процессов основная часть населения (средний класс и «земщина») играет «вторым номером», и ее сложно «раскачать» и мотивировать к политическому участию. Более того, что бы там ни утверждали теоретики либеральной демократии, даже в так называемых развитых странах общество в условиях стабильности тяготеет к «перекладыванию ответственности» на свое руководство и «возбуждается» лишь в чрезвычайных обстоятельствах (острые политические и экономические кризисы, войны, «моральный износ власти» и пр.). Кстати, в современных обществах неизжитым является не только патернализм, но и запрос на сильное и популярное лидерство. Как пишут современные российские исследователи Е.Н. Чеснова и Т.И. Денисова, «для современного общества наибольший интерес и пользу представляют успешные, талантливые организаторы, руководители, менеджеры, которые могут в своем стиле поведения, управления использовать харизматические, авторитарные черты» [Чеснова, Денисова 2015: 70]. Последнее обстоятельство создает существенную угрозу власти элиты, которая, в свою очередь, стремится не допустить альянса народных масс с «вождем», усматривая в этом ущемление своего политического и экономического влияния. Поэтому «правящий класс», с одной стороны, делает все возможное для отрыва гражданского общества от лидера, создавая между ними «глухую зону», а с другой – последовательно нивелирует лидерское начало во власти, нередко низводя лидеров до роли «свадебных генералов» (Э. Макрон, Д. Мелони), геронтократов (Дж. Байден) или фигляров (В. Зеленский, Б. Джонсон) [Шатилов 2016]. В этом плане не является исключением и Российская Федерация, где элита с начала нулевых годов также ведет латентную, но последовательную игру по ограничению полномочий и влияния В.В. Путина в рамках «властного акционерного общества», где глава государства обладает блокирующим, а не контрольным «пакетом акций». Более того, сила элитного взаимодействия такова, что с 2014 г. консолидированному истеблишменту несколько раз удавалось навязать свою «частную» волю стране вопреки ее национальным интересам. Так, например, именно усилиями российской элиты был выхолощен процесс так называемой Русской весны на Украине, который в итоге ей удалось ввести в «управляемые» и «цивилизованные» рамки невыгодных России безальтернативных Минских соглашений. Восьмилетние безрезультатные переговоры, которые, как открыто признали лидеры Запада в 2022 г., оказались фальшивыми и фейковыми, но, по словам, А. Меркель, «дали Украине время. Она [Украина]…использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов – это не современная Украина»1. При этом мощное давление на главу государства было оказано в 2014 г. трижды – в мае, во время и после визита в Российскую Федерацию президента Швейцарии Д. Буркхальтера, в августе–сентябре (первые Минские соглашения) и после овладения вооруженными силами ДНР стратегически важным городом Дебальцево (Минск-2). Такая позиция элиты была вызвана как минимум тремя обстоятельствами: во-первых, иллюзиями, что с Западом еще можно будет договориться, при этом остаться «с Крымом»; во-вторых, эгоистическими опасениями относительно своих активов за рубе- жом; в-третьих, ментальным западничеством российской элиты, которое корнями уходит еще во времена 1970–1980-х гг. и подразумевает зачастую иррациональное преклонение перед западной цивилизацией. Также на «компромиссную» позицию отечественного «правящего класса» повлияло опасение перерастания достаточно стихийной Русской весны в патриотический антиолигархический подъем уже внутри самой Российской Федерации. При этом, как показывали соцопросы весны–лета 2014 г., поддержка реинтеграции Крыма и освободительной борьбы русскоязычного населения на юго-востоке Украины была высока как в российском обществе, так и на тогдашних украинских территориях (Донецкая, Луганская, Харьковская, Одесская обл., несколько меньше в Херсонской, Запорожской и Николаевской обл.).
Также стремление элиты помешать консолидации «низов» (среднего класса и «земщины») вокруг В.В. Путина проявилось и в более поздний период, например, в 2018 г., когда после триумфальной победы на президентских выборах (глава государств получил рекордные 77% голосов избирателей) истеблишмент посчитал опасным такой высокий рейтинг доверия В.В. Путину у населения и моментально «сбил» его почти на 20% за счет реализации непопулярной и необязательной пенсионной реформы1.
Таким образом, как мы видим, элита в современном мире стремится достаточно жестко контролировать процесс взаимодействия «первого лица» с народными массами, пресекая любые попытки наладить их «прямой диалог». При этом в качестве «промежуточных буферов» используются государственный аппарат, экспертное сообщество, СМИ, «правильные» ЛОМы и пр.
Тем не менее специальная военная операция, ставшая следствием провала Минского переговорного процесса, кардинально изменила баланс сил в российском обществе. Это было связано с целым рядом обстоятельств, таких как:
– не слишком удачное начало спецоперации, связанное прежде всего со слабостью стратегического планирования и неверной оценкой потенциала противника;
– мобилизационный характер противостояния, плавно перешедшего из локальной операции по «денацификации» Украины в масштабное «столкновение цивилизаций», по С. Хантингтону;
– серьезные внутриэлитные противоречия, разделение «правящего класса» на несколько сегментов («пораженцы и релоканты», «партия компромисса», «прагматики», «бюрократические патриоты» и «партия Победы»), продвигающих в аппаратной среде и публичном пространстве свою собственную повестку дня;
– определенный раскол в общественной среде, особенно среди лидеров общественного мнения;
– идеологические и социокультурные трансформации в российском обществе в направлении патриотизма, антизападничества и традиционных ценностей;
– широкая политизация «низов» и «среднего класса», их активное и прямое вовлечение в военно-политическую деятельность.
Именно с этими обстоятельствами как раз и связано появление в России так называемого третьего гражданского общества.
В классической западной политической теории традиционно считается, что существует всего два принципиальных типа гражданского общества (не считая различного рода их модификаций и оттенков). Первый тип (неприемлемый с точки зрения либеральной и неолибертарианской теории) – тип патриархально-подданнический. Это общество не проявляет инициативы, полностью лояльно власти и жестко контролируется государством. Кстати, невзирая на то, что либеральные политологи любят примерять этот тип на российскую историю и даже российскую действительность, он на самом деле не характерен для отечественной практики. Даже в условиях созвучия общества и власти неизменно действовала формула: «Царю – власть, народу – мнение».
Что же касается «идеального» (с точки зрения адептов либеральной теории) типа гражданского общества, то оно ими мыслится как «противовес» власти, как перманентная оппозиция, цель которой – «сбалансировать» государственное влияние и «защитить права и свободы человека». Однако такая модель является весьма конфликтогенной, создающей риски разбалансировки политической системы и даже гражданской войны. Наша страна столкнулась с такими проблемами в 1917 и 1991 гг., когда попытки либеральных элитных кругов «оптимизировать» политсистему на западный манер привели к двум государственным катастрофам. Тем не менее либеральные политологи и юристы даже в последние годы педалируют тему «незрелости» российского гражданина и его неготовности «воспринять ценности правового государства». Так, например, известный юрист О.В. Орлова весьма голословно заявляет, что «идея гражданского общества на получила должной легитимации в общественном сознании, не вросла в сознание и быт российского человека» [Орлова 2013: 25].
Примечательно, что после начала специальной военной операции российское гражданское общество оказалось на распутье – полностью принять «правила игры» власти в отношении СВО (в т.ч. различные «маневры», «сделки», «перегруппировки» и пр.) либо уйти в глухую оппозицию и «раскачивать» политическую систему. Практика показала, что ни тот ни другой путь российское общество не приняло. Так, сохраняя лояльность политическому режиму в целом и В.В. Путину в частности, поддерживая спецоперацию, оно, тем не менее, весьма требовательно и критически относится к действиям власти, требуя от нее большей последовательности, жесткости и справедливости. Кстати, пораженческие «стамбульские соглашения» в марте 2022 г. были сорваны не только амбициями украинской стороны, но также волной протеста, которая, хотя и носила виртуальный характер, тем не менее, свидетельствовала о категорическом неприятии активной частью российского общества «сдачи национальных интересов»1. Не менее остро блогосфера отреагировала и на другие спорные решения власти – отвод войск от Киева и из Харьковской обл., уход из Херсона, иные «перегруппировки» российских войск, связанные со сдачей контролируемой территории, а также «зерновую» и «аммиачную» сделки, в которых общество усматривало частный и корыстный интерес определенных олигархических кругов.
Однако при всем при этом патриотически настроенное российское общество не ушло в оппозицию. Понимая (зачастую интуитивно) всю сложность и многогранность внутриэлитной борьбы в рамках «властного акционерного общества», оно избрало третий путь. В условиях СВО в России сформировался новый тип гражданского общества – «страхующий», который свою задачу видит в содействии военной кампании за счет «подстраховки» и «компенсации» ошибок и просчетов власти. При этом представители данного типа граж- данского общества имеют собственное мнение по принципиальным политическим и даже военно-политическим вопросам, критикуют «слабые места» политсистемы, выступают против коррупции и местничества в «правящем классе». Более того, они претендуют на то, чтобы стать альтернативным источником информации для власти в целом и президента России персонально1. Они лоялисты, но не апологеты, активисты, но не неформалы. Что же касается их непосредственной деятельности, то она направлена на организацию широкого народного содействия фронту для достижения окончательной победы2. При этом российское «третье гражданское общество» и государство не связывают прагматические и рациональные моменты, в отличие от стран Запада, где в качестве главного объединяющего критерия выступает взаимный интерес [Меньшикова 2019: 85].
Представителей «третьего пути» современного российского гражданского общества можно систематизировать по следующим группам:
-
– волонтеры-«гуманитарщики» (сбор средств и снаряжения для бойцов на фронте, а также гуманитарной помощи для пострадавших в ходе СВО; выполнение различного рода социальных миссий в зоне конфликта; гражданская медицинская помощь, поддержка семей мобилизованных и пр.);
-
– военные корреспонденты и блогеры (освещение спецоперации «в реальном приближении», доведение до власти и общественности насущных потребностей бойцов и гражданского населения, информирование общества о ходе СВО и пр.);
-
– «диванные войска» (ведение информационно-агитационной работы как с внутрироссийской, так и зарубежной аудиторией; борьба с различного рода фейками и информационными провокациями противника; создание и распространение оригинального пропагандистского контента; полемика с представителями антироссийского лагеря и др.) [Шатилов 2017];
-
– волонтеры-«техники» (создание новых, зачастую кустарных, вариантов «околовоенной» продукции, прежде всего дронов, маскировочных сеток, печей; закупка и доставка в боевые подразделения необходимого легкового и грузового транспорта; ремонт пострадавшей военной техники и др.);
-
– «творческие» волонтеры (организация и проведение в зоне СВО концертов и иных культурных мероприятий для бойцов; ведение культурно-массовой работы на новых территориях Российской Федерации; материальная, методическая и академическая помощь школам и вузам).
Таким образом, можно констатировать, что в последние годы под влиянием внешних и внутренних факторов в России возник особый тип гражданского общества, ориентированный на содействие государству в реализации его полномочий, но при этом сохраняющий по отношению к нему определенную автономность и даже «конструктивную критичность».
Список литературы Гражданское общество в России: третий путь
- Меньшикова Н.С. 2019. Партнерство государства и институтов гражданского общества как предмет анализа в современном зарубежном обществоведении. - BENEFICIUM. № 4(33). С. 84-93.
- Орлова О.В. 2013. Понятие и предпосылки возникновения и развития гражданского общества. - Государство и право. № 7. С. 19-26.
- Чеснова Е.Н., Денисова Т.И. 2015. Феномен лидерства в современном мире. - Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. № 1(13). С. 66-72.
- Шатилов А.Б. 2016. Элита, лидер, народ в современных развитых государствах: опыт рационального анализа иерархии власти. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 6. № 3(23). С. 54-59.
- Шатилов А.Б. 2017. Современные информационные войны: феномен "диванной мобилизации" (на примере украинского конфликта 2014-2017 гг.). - Дискурс-ПИ. № 2(27). С. 141-145.