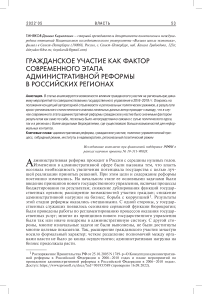Гражданское участие как фактор современного этапа административной реформы в российских регионах
Автор: Тиняков Даниил Кириллович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются возможности влияния гражданского участия на региональную динамику мероприятий по совершенствованию государственного управления в 2016-2019 гг. Опираясь на положения концепций авторитарной отзывчивости и региональных политических режимов, в результате кросс-регионального статистического анализа панельных данных автор приходит к выводу, что в случае современного этапа административной реформы гражданское участие было значимым фактором результатов как само по себе, поскольку было непосредственно связано с сутью политического курса, так и в регионах с более закрытыми бюрократиями, где существовало больше возможностей для неформальных контактов.
Административная реформа, гражданское участие, политико-управленческий процесс, гибридный режим, институты в недемократиях, региональный политический режим
Короткий адрес: https://sciup.org/170195882
IDR: 170195882 | DOI: 10.31171/vlast.v30i5.9238
Текст научной статьи Гражданское участие как фактор современного этапа административной реформы в российских регионах
А дминистративная реформа проходит в России с середины нулевых годов.
Изменения в административной сфере были вызваны тем, что власть осознала необходимость увеличения потенциала государства с целью лучшей реализации принятых решений. При этом цели и содержание реформы постоянно изменялись. На начальном этапе ее основными задачами были введение принципов нового государственного управления, включая процессы бюджетирования по результатам; снижение дублирования функций государственных органов; расширение возможностей участия граждан; снижение административной нагрузки на бизнес; борьба с коррупцией1. Результаты этой стадии реформы оказались смешанными. С одной стороны, у государственных служащих появилось осознание сервисной функции бюрократии; были проведены работы по регламентированию процессов оказания государственных услуг; многие из принципов нового государственного управления были так или иначе внедрены в административную систему. С другой стороны, многие изначальные задачи не были выполнены, не были достигнуты многие целевые показатели. Так, расширение гражданского участия зачастую носило формальный характер; четкое разделение полномочий между органами власти не было до конца осуществлено; административная нагрузка на бизнес продолжала расти.
На очередном этапе административной реформы, начавшемся в 2011 г., ее основными задачами стали «снижение избыточного государственного регулирования, повышение качества государственных услуг, повышение эффективности органов власти, повышение информационной открытости» [Бычкова, Землянская, Юдина 2016: 7]. Несмотря на то что все эти направления в том или ином виде существовали и на более ранних этапах реформы, новая ее стадия, продолжающаяся до сих пор, предполагала проведение ряда новых мероприятий. Среди таковых были внедрение института оценки регулирующего воздействия, института саморегулирования, развитие цифровизации государственных услуг, повышение доступности многофункциональных центров и качества предоставляемых в них услуг, снижение избыточного регулирования. Отдельно стоит отметить появление многих новых индикаторов, при помощи которых создавалась система мониторинга и оценки эффективности государственного управления и процессов взаимодействия государства с гражданами [Бычкова, Землянская, Юдина 2016; Редкоус 2020]. Важным новым элементом этапа административной реформы 2010-х гг. было внедрение института оценки регулирующего воздействия, который предполагает привлечение внешних экспертов и граждан для оценки влияния законопроекта на затрагиваемые им группы на стадии подготовки и последующее внесение изменений при соответствующих рекомендациях [Арзамасов 2019]. С одной стороны, применение данного механизма способствует повышению качества управления, потенциально ведет к учету мнения большего числа заинтересованных сторон; с другой стороны, усиливая элемент контроля, оценка регулирующего воздействия ведет к повышению потенциала государства в принципе.
Несмотря на то что расширение участия граждан в процессах выработки и реализации политических курсов является одной из декларируемых задач административной реформы, возможности гражданского участия в самом проведении административной реформы существенно у же, чем при реализации некоторых других политических курсов. На современном этапе граждане могут влиять на качество оказываемых услуг, проводя его оценку по различным параметрам в приложении «Госуслуги» и в многофункциональных центрах. Данные по регионам собираются и агрегируются в единую систему. Однако необходимо отметить, что, например, в рейтинге качества оказания государственных услуг в МФЦ учитывается не сама оценка гражданами качества услуг, а распространенность использования механизма оценки безотносительно к числу полученных баллов. Помимо этого, проводятся публичные слушания по проектам решений, затрагивающих административную сферу. В случае административной реформы к «традиционным» проблемам этого института в России, связанным с недостаточной информированностью граждан, формальностью их проведения и необязательностью исполнения резолюций, добавляется и отсутствие явно артикулированного интереса населения к соответствующей сфере, в отличие от начала нулевых годов, когда проблемы разросшегося бюрократического аппарата и неудобства получения услуг остро воспринимались населением.
Проблема отсутствия заинтересованности граждан проявляется и в другой форме гражданского участия – непосредственном участии в оценке регулирующего воздействия проектируемых нормативных актов. Нормы оценки регулирующего воздействия закрепляют необходимость получения экспертного заключения и проведения публичных консультаций. Последние предполагают возможность как для представителей бизнеса, так и для отдельных граждан высказать свое мнение о предлагаемых проектах. В дальнейшем эти предложения могут быть учтены или не учтены соответствующими органами власти. Здесь нужно отметить, что регионы существенно отличаются по качеству организации публичных консультаций. Так, в Ленинградской обл., Башкортостане, Карелии существует возможность оставить свои предложения напрямую в соответствующем разделе портала оценки регулирующего воздействия. Там же видны замечания других заинтересованных лиц и ответы уполномоченных со стороны органа власти. А в Архангельской обл., Татарстане, Чечне отсутствует единое пространство для высказывания всех замечаний; предложения граждан собираются по электронной и обычной почте. По результатам обработки заявок формируется сводный отчет с указанием, какие из них были учтены при разработке проекта. Несмотря на то что первый вариант организации публичных консультаций представляется более удобным для граждан, он является и более публичным благодаря автоматической агрегации предложений. Оба этих способа ограничены степенью информированности граждан о публичных консультациях и уровнем интереса населения к конкретной проблеме. Бóльшая часть всех проектов нормативных актов остается без каких-либо замечаний и предложений со стороны граждан.
В данном исследовании автор анализирует роль гражданского участия в реализации современных (2015–2019 гг.) мероприятий по совершенствованию государственного управления в регионах. Учитывая ведущуюся дискуссию о возможности гражданского участия оказывать реальное влияние на политико-управленческий процесс в гибридном режиме, помимо выполнения функций, поддерживающих выживание режима, было проведено исследование, насколько фактор гражданского участия был значимым в имплементации данного политического курса вообще, и при каких условиях проявлялась эта значимость.
Изначальные гипотезы были основаны на положениях теории авторитарной отзывчивости [Chen, Pan, Xu 2016], предполагающей, что авторитарные элиты могут учитывать мнение граждан в двух ситуациях: в случае давления «сверху» и давления «снизу». Первая ситуация возможна в случае заинтересованности вышестоящих элит в определенных результатах политических курсов; вторая – в случае, если элиты воспринимают риски протестной активности как высокие, а также давление «снизу» описывает восприимчивость элит к отдельным наиболее лояльным социетальным акторам. В свою очередь, для предположения о факторах, которые могли бы привести к активации механизмов давления «снизу» и/или «сверху» в отношении региональных элит, были использованы элементы концепции региональных политических режимов, предложенной Ю. Гайворонским в развитие идей Р. Туровского [Гайворонский 2015; Туровский 2009], который предложил оценивать региональные режимы по трем параметрам: уровню политической конкуренции; уровню открытости региональной бюрократии; уровню зависимости от центра. В результате автор исходил из трех гипотез относительно условий значимости гражданского участия в ходе обозначенного этапа совершенствования государственного управления в регионах.
H1. Поскольку цели мероприятий по совершенствованию управления были формально закреплены в качестве критериев оценки деятельности региональных властей, бóльшая зависимость региона от федерального центра должна способствовать значимому влиянию гражданского участия на исходы политического курса в сторону, соответствующую этим критериям (давление «сверху»).
H2. Уровень политической конкуренции в регионе является одним из факторов, определяющих значимость влияния гражданского участия. В более конкурентных регионах больший уровень гражданского участия приводит к проявлению давления «снизу» благодаря политическим рискам, а в менее конкурентных регионах гражданское участие выполняет роль субститута, канализируя недовольство, являясь фасадом участия.
H3. В регионах с бóльшим уровнем закрытости региональных администраций уровень институционализированного гражданского участия будет значимым фактором политико-управленческого процесса, поскольку неформальные каналы связи государства и социетальных акторов зачастую являются более эффективными в ситуации недемократического режима [Owen, Bindman 2019; Foster 2001] (давление «снизу» через восприимчивость элит к наиболее лояльным акторам).
Эмпирический анализ. Для проверки указанных гипотез был проведен статистический анализ кросс-региональных панельных данных по 78 регионам за период с 2016 по 2019 г. Были построены несколько моделей порядковых панельных регрессий, где зависимой переменной выступали результаты политического курса, а для выявления условия влияния гражданского участия включался эффект взаимодействия с одним из модераторов, отражающих описанные выше параметры региональных режимов.
Результаты политического курса операционализировались при помощи ранговой переменной, отражающей рейтинг Министерства экономического развития по качеству оказания услуг в МФЦ, что являлось одной из основных задач проводимых мероприятий (1 – удовлетворительный и неудовлетворительный уровень; 2 – хороший; 3 – высший). Уровень гражданского участия оценивался при помощи самостоятельно сконструированного индекса, отражающего наличие участия (удельное число социально ориентированных НКО и профсоюзов), его стабильность (отношение доходов СОНКО к ВРП; доля населения, получающего услуги от СОНКО)1. Веса индикаторов распределялись при помощи метода главных компонент [Sendhil et al. 2017: 54-56]. Финальное значение было нормировано. Уровень открытости бюрократии также оценивался при помощи интегральной переменной, включающей значения рейтинга конкурентности государственных закупок Счетной палаты РФ (доля конкурентных закупок в общем объеме и числе контрактов)2 и рейтинга информационной открытости высших органов исполнительной власти регионов3. Зависимость от центра операционализировалась через долю трансфертов в доходах консолидированных бюджетов субъектов4, а уровень политической конкуренции измерялся при помощи эффективного числа партий по Молинару [Molinar 1991] (среднее между ЭПП на последних выборах в Думу и в региональный парламент)5.
В регрессии также включались контрольные переменные, отражающие раз- личные социально-экономические и демографические характеристики регионов.
Таблица 1
Зависимая переменная – рейтинг регионов по качеству работы МФЦ (порядковая панельная регрессия)
|
Model 1.1 |
Model 1.2 |
Model 1.3 |
|||||||
|
DV |
mfc_rank |
mfc_rank |
mfc_rank |
||||||
|
est. |
p–val. |
est. |
p-val. |
est. |
p-val. |
||||
|
civic_participation: molinar_index |
0.062 |
0.274 |
0.033 |
0.489 |
|||||
|
civic_participation: transparency_index |
–0.191 |
0.022 |
* |
-0.051 |
0.386 |
-0.136 |
0.002 |
** |
|
|
civic_participation: share_of_transfers |
–0.065 |
0.245 |
-0.055 |
0.185 |
|||||
|
civic_participation |
–0.099 |
0.271 |
0.019 |
0.712 |
-0.162 |
0.078 |
. |
||
|
molinar_index |
0.093 |
0.554 |
0.065 |
0.241 |
|||||
|
transparency_index |
0.092 |
0.257 |
0.148 |
0.005 |
** |
0.074 |
0.346 |
||
|
share_of_transfers |
0.421 |
0.096 |
. |
0.153 |
0.057 |
. |
0.522 |
0.015 |
* |
|
grp_pc |
0.288 |
0.152 |
0.089 |
0.109 |
|||||
|
urban_share |
2.315 |
0.000 |
*** |
-0.117 |
0.098 |
. |
2.478 |
0.000 |
*** |
|
budget_delta |
0.046 |
0.263 |
0.074 |
0.086 |
. |
||||
|
below_sub |
–1.048 |
0.008 |
** |
-0.109 |
0.177 |
-1.198 |
0.002 |
** |
|
|
unempl_lvl |
0.098 |
0.831 |
-0.093 |
0.214 |
|||||
|
pop_dens |
–2.357 |
0.005 |
** |
0.069 |
0.162 |
||||
|
(Intercept) |
2.517 |
0.000 |
*** |
||||||
|
Model |
fixed effects |
random effects |
fixed effects |
||||||
|
Period |
2016–2019 |
2016–2019 |
2016–2019 |
||||||
|
n (regions) |
77 |
77 |
77 |
||||||
|
N (region-year) |
306 |
306 |
306 |
||||||
|
F-Test (FE vs. pooling; H0 = no effects) |
0.000 |
0.000 |
|||||||
|
Hausman Test (FE vs. RE; H0 = both models are consistent) |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
||||||
|
Lagrange Multiplier Test (RE vs. pooling; H0 = no effects) |
0.080 |
||||||||
В таблице 1 представлены модели панельных регрессий с рейтингом качества работы многофункциональных центров предоставления государственных услуг в роли зависимой переменной. В данном случае выбор делается в пользу модели с фиксированными эффектами, исходя из значений теста Хаусмана. В случае модели с фиксированными эффектами (1.3) наблюдается значимый эффект взаимодействия индекса гражданского участия со степенью открытости административной системы субъектов (коэффициенты и p-value указаны с учетом кластеризованных стандартных ошибок). При этом видно, что индекс гражданского участия сам по себе является значимой независимой переменной в модели. Значимое положительное влияние на рейтинг региона оказывают также доля трансфертов в структуре доходов региона и доля городского населения. Первое объясняется тем, что в менее независимых субъектах существует больше стимулов к выстраиванию эффективного управления, взаимодействия с гражданами. В свою очередь, в урбанизированных регионах выше потребность в современной системе взаимодействия с государством. Наконец, виден отрицательный эффект переменной доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, что может выступать индикатором отсутствия ресурсов в регионе и/или большей важности более острых социально-экономических проблем.
Анализ моделей с результатами административной реформы в качестве зависимой переменной дает двойственный результат. С одной стороны, модели, оценивающие влияние независимых переменных, говорят в пользу подтверждения нашей гипотезы о характере взаимодействия уровня гражданского участия с уровнем открытости региональной бюрократии. Это подтверждает интуитивное представление о роли давления «снизу», проявляющегося как отзывчивость к наиболее лояльным социетальным акторам в ситуации, когда неформальные контакты работают лучше, чем официальные каналы взаимодействия государства и общества. С другой стороны, не подтверждается наша гипотеза о взаимодействии гражданского участия с зависимостью региона от центра в случаях, когда центр напрямую заинтересован в проведении некоторого политического курса. Такие результаты дают повод констатировать отсутствие какой-либо специфики взаимодействия черт региональных режимов с уровнем гражданского участия в случае давления «сверху». Более того, тот факт, что зависимость от центра не является значимым модератором, но является значимым самостоятельным фактором, может говорить о том, что в ситуации, когда федеральный центр заинтересован в успехе некоторого политического курса, в условиях логики «поддержка в обмен на лояльность» механизм давления «сверху» как некоторого катализатора влияния граждан не проявляется: вышестоящим элитам достаточно рычагов для оказания влияния на региональные элиты без привлечения граждан в качестве «союзника». Не подтверждается также гипотеза о роли уровня политической конкуренции в регионе как о возможном факторе проявления давления снизу. В контексте концепции авторитарной отзывчивости это служит еще одним свидетельством в пользу того, что в недемократиях даже отчасти существующая электоральная конкуренция не является достаточным фактором для отзывчивости элит к интересам населения. Помимо этого, стоит отметить, что уровень гражданского участия также может быть значимым самостоятельным фактором, что выглядит вполне логично, учитывая большую значимость эффективных каналов взаимодействия с государством в регионах с более высоким уровнем общественной активности, даже несмотря на отсутствие внимания большей части населения к административной реформе как таковой.
Список литературы Гражданское участие как фактор современного этапа административной реформы в российских регионах
- Арзамасов Ю. 2019. Оценка регулирующего воздействия и риски в праве: опыт России и континентальной Европы. - Право. Журнал Высшей школы экономики. № 5. С. 4-31.
- Бычкова А., Землянская А., Юдина М. 2016. Административная реформа в Российской Федерации: Ретроспективный анализ, итоги и перспективы. - Инновационная экономика и общество. № 4. С. 2-11.
- Гайворонский Ю. 2015. Региональные политические режимы в России: концептуальные новации и возможности измерения. - Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. № 2. С. 21-37.
- Редкоус В. 2020. Основные направления нового этапа административной реформы в Российской Федерации. - Закон и право. № 8. С. 15-18.
- Туровский Р. 2009. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа. - Полис. Политические исследования. № 2. С. 77-95.
- Chen J., Pan J., Xu Y. 2016. Sources of Authoritarian Responsiveness: A Field Experiment in China. - American Journal of Political Science. Vol. 60. No. 2. P. 383-400.
- Foster K. 2001. Associations in the Embrace of an Authoritarian State: State Domination of society? - Studies in Comparative International Development. Vol. 35. No. 4. P. 84-109.
- Molinar J. 1991. Counting the Number of Parties: An Alternative Index. - The American Political Science Review. Vol. 85. No. 4. P. 1383-1391.
- Owen C., Bindman E. 2019. Civic Participation in a Hybrid Regime: Limited Pluralism in Policymaking and Delivery in Contemporary Russia. - Government and Opposition. Vol. 54. No. 1. P. 98-120.
- Sendhil R. et al. 2017. Data Analysis Tools and Approaches (DATA) in Agricultural Sciences. Karnal, Haryana, India: ICAR-Indian Institute of Wheat and Barley Research. 127 р.