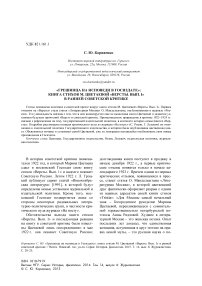"Грешница на исповеди в госиздате": книга стихов М. Цветаевой "Версты. Вып. I" в ранней советской критике
Автор: Корниенко Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История журналистики
Статья в выпуске: 6 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена полемике в советской прессе вокруг книги стихов М. Цветаевой «Версты. Вып. I». Первым отзывом на «Версты» стала статья «Литературная Москва» О. Мандельштама, опубликованная в журнале «Россия». Его уникальность связана с тем, что в нем анонсируется еще не вышедшая книга Цветаевой и задаются установки будущих прочтений «Верст» в советской критике. Принципиальное приращение в критике 1923-1924 гг. связано с рефлексиями на тему государственной издательской политики, в контексте которых осмысляются «Версты». Подробно рассмотрена позиция критического пула из журнала «На посту» (С. Родов, Г. Лелевич) по отношению к издательской политике Государственного издательства, в котором была опубликована цветаевская книга. Объясняются мотивы и установки самой Цветаевой, уже из эмиграции пытавшейся опубликовать свои новые произведения в Госиздате.
Цветаева, государственное издательство, родов, лелевич, журнальная политика, издательская политика
Короткий адрес: https://sciup.org/147219365
IDR: 147219365 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи "Грешница на исповеди в госиздате": книга стихов М. Цветаевой "Версты. Вып. I" в ранней советской критике
В истории советсткой критики знаменателен 1922 год, в который Марина Цветаева сдаст в московский Госиздат свою книгу стихов «Версты. Вып. 1» и надолго покинет Советскую Россию. Летом 1922 г. Л. Троцкий публикует серию статей «Внеоктябрь-ская литература» [1991], в которой будут определены новые установки журнальной и издательской политики. Кроме того, московский Госиздат подвергнется атаке со стороны некоторых радикальных литературно-политических групп, в частности критического пула журнала «На посту».
Обстоятельства выхода книги стихов «Версты. Вып. I» и последующая реакция на книгу в советской критике были известны Цветаевой лишь опосредованно: в мае 1922 г. она покинет Советскую Россию;
долгожданная книга поступит в продажу в начале декабря 1922 г., а первые критические отзывы появятся только в начале календарного 1923 г. Причем одним из первых критических отзывов, появившихся в прессе, станет статья О. Мандельштама «Литературная Москва», в которой цветаевский друг фактически оформляет разрыв с одним из важных адресатов своей книги стихов «Tristia»: «Для Москвы самый печальный знак – богородичное рукоделие Марины Цветаевой, перекликающееся с сомнительной торжественностью петербургской поэтессы Анны Радловой. Худшее в литературной Москве – это женская поэзия. Опыт последних лет доказал, что единственная женщина, вступившая в круг поэзии на правах новой музы, – это русская наука о по-
Корниенко С. Ю. «Грешница на исповеди в Госиздате»: книга стихов М. Цветаевой «Версты. Вып. I» в ранней советской критике // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 6: Журналистика. С. 20–25.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 14, выпуск 6: Журналистика
эзии, вызванная к жизни Потебней и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе Эйхенбаума, Жирмунского и Шкловского» (Мандельштам, 2010. С. 102). В монографии И. Шевеленко этот пассаж Мандельштама указывается в качестве единственного актуального отклика в советской прессе на цветаевский сборник. Исследователь предлагает рассматривать мандельштамовский выпад в качестве реакции на уходящий культурный образец – «поэтессы 1910-х годов» [2002. С. 215–216].
Уникальность мандельштамовского отзыва состоит в том, что его статья в сентябрьском номере журнала «Россия» за 1922 г. анонсирует еще не вышедшую книгу Цветаевой, при этом страстно-предвзятый характер интенций, обращенных к давней поэтической подруге, позволяет предположить о «свежем» знакомстве поэта с подвергаемым остракизму эстетическим объектом. Следует заметить, что появление в прессе развернутых отзывов, анонсирующих еще не вышедшую книгу, не столь частое явление, в абсолютном большинстве случаев они инициировались непосредственно рецензируемым автором. В качестве примера можно привести известную рецензию М. Кузмина на «Чужое небо» Н. Гумилева, вышедшую во втором (февральском) номере «Аполлона» за 1912 г., в то время как сам сборник будет напечатан в марте того же года [Лукницкий, 2010. С. 282]. Другой пример указывает А. Г. Мец в комментарии к «Tristia» и в хронике Мандельштама. Хвалебная рецензия В. Жирмунского «На путях к классицизму (О. Мандельштам “Tristia”)», предваряющая предполагаемую публикацию в петроградском «Петрополисе», увидит свет в журнале «Вестник литературы» еще в июле 1921 г. Однако в связи с цензурным запрещением Мандельштам не сможет издать книгу в России, «Tristia» выйдет в Берлине только через год после обнародования рецензии [Мандельштам, 2014. С. 202, 233].
Вероятное знакомство Мандельштама с рукописью цветаевской книги могло произойти во время кратковременного проживания в доме Марины Цветаевой (конец апреля 1922 г.). Об этом мы узнаем благодаря разысканиям А. Г. Меца из трех независимых источников в личной хронике Мандельштама. Цветаевский адрес (Борисоглебский, д. 6) появляется в проекте договора от
21 апреля 1922 г. между Госиздатом и Мандельштамом [Издание художественной литературы…, 2009. С. 269]. Из дневниковой записи И. Н. Розанова (вечер 18 апреля 1922 г.) также становится известно, что Мандельштамы поселились у Цветаевой [Мандельштам, 2014. С. 219]. Позднее о «поэтической коммуне», стихийно организовавшейся в цветаевском доме, вспоминал поэт и сотрудник Госиздата П. Н. Зайцев [Там же].
В автобиографической зарисовке Цветаевой «Моя судьба как поэта» (1931) две госиздатовские книги («Царь-Девица» и «Версты I»), сданные в печать перед отъездом за границу, становятся, с одной стороны, эффектным завершением русского периода цветаевской биографии. С другой – роль покинутой и покоренной поэтом Москвы на три летних месяца 1922 г. закономерно подхватит Берлин, куда Цветаева прибывает в качестве успешного литератора, обладающего крупным символическим капиталом, – вышедшими поэтическими книгами, уже налаженными связями с литературными институциями: «Перед отъездом из Р<оссии> выпускаю у Архипова (был такой!) маленькую книжечку “Версты” (сборничек) и Госиздат берет у меня Царь-Девицу и другие Версты, большие. <…>
Приехав, издаю – Ремесло (стихи за 1921 г. по апрель 1922 г., т. е. отъезд из Р<оссии>), Царь-Девицу – с чудовищными опечатками и Психею (сборник, по примете романтики), купленную Гржебиным еще в Р<оссии>. Потом, в Праге, в 1925 г. – Мóлодца. Потом, в Париже – каж<ется> в 1927 г. – После России (за к<отор>ую не получаю ни копейки)» (Цветаева, 1997. С. 437).
В заметке «Моя судьба как поэта» причины растраты символического капитала являются объектом мучительной авторефлексии. Относительная поэтическая и социальная успешность последнего года в России и первых лет эмиграции (по 1925 г.) в противопоставлении, с одной стороны, дореволюционному периоду с «холостыми», с точки зрения литературной репутации, тремя первыми сборниками, с другой – парижскому, неоднократно подвергалась цветаевскому самоанализу. Маркером растраты символического капитала, как это часто бывает, становится капитал вполне физический – отсутствие гонорара («не получаю ни копейки») за сборник «После России» (1928). Скорый отъезд из Берлина в Прагу (1922) не способствовал пониманию Цветаевой реальных тенденций в издательской политике, тем более в оставленной ею Советской России. В письме Роману Гулю от 11 апреля 1924 г. Цветаева, предлагая ему роль литературного агента в переговорах с «берлинским председателем Госиздата», считает возможным опубликовать в московском «Госиздате» сразу две свои книги – «Версты II» и «Умыслы»: «Пусть он (у Цветаевой, «берлинский председатель Госиздата». – С. К.), в возможно скором времени, запросит московский Госиздат (там у меня друг – П. С. Коган и, если не сменен, благожелатель – цензор Мещеряков, взявший мою Царь-Девицу, не читая, по доверию к имени (коммунист!)). По отношению к Госиздату я чиста: продавая им перед отъездом “Царь-Девицу” и “Версты” (I), – оговорилась, что за границей перепечатаю. (Что и сделала, с “Царь-Девицей”). <…>
Одновременно с ответом Госиздата пусть сообщит мне и условия: 1) гонорар 2) количество выпускаемых экземпляров 3) срок, на который покупается книга.
Деньги – мое условие – при сдаче рукописи, все целиком.
Есть, для Госиздата, еще другая книга: “Версты” (II) – стихи 1917 г. – 1921 г. (Первую они уже напечатали.) М. б. и эту возьмут. Предложите обе.
Теперь трудности: переписывать и ту и другую я могу только наверняка , – большая работа, тем более, что переписывать придется по новой орфографии, чтó, в случае отказа для заграницы не пригодится, ибо здесь печатаюсь по-старому. Книги им придется взять по доверию . “Умыслы” Вы, по берлинским стихам, немножко знаете, остальные не хуже.
“Версты” (II) вполне безвредны, продолжение первых. “Политические” стихотворения все отмечу крестиками, захотят – напечатают, захотят – выпустят. Думаю, первое, – есть такое дуновение» (Цветаева, 2013. С. 31–32).
Договоренность Цветаевой с Госиздатом о возможности перепечатки «Царь-Девицы» и «Верст I» если и существовала, то, вероятно, носила неформальный устный характер. В типовом договоре, заключенном Цветаевой с Госиздатом по поводу публикации поэмы-сказки «Царь-Девица», отдельным третьим пунктом было указано отчуждение авторских прав сроком на три года: «Государственное издательство приобретает у М. И. Цветаевой право исключительного пользования на упомянутое выше произведение сроком на три года, считая со дня выхода его в свет» [Издание художественной литературы…, 2009. С. 252]. С позиции Госиздата выход берлинского издания «Царь-Девицы» (1922) являлся очевидным нарушением заключенного письменного контракта. Безусловная уверенность Цветаевой в интересе Госиздата образца 1924 г. к ее персоне (отсюда императивная модальность, предварительный диктат условий и пр.) позволяет предположить не только незнание крайне неблагоприятных для модернистов «дуновений» 1924 г., но и последствий публикации двух ее произведений.
В 1923 г. издания Цветаевой неоднократно упоминаются в столичной прессе в качестве примера отнюдь не курьезного прецедента внезапной «добросердечности» как в целом московской редакции Госиздата, так и персонально – главного редактора Н. Мещерякова, не только к белобандитке и эмигрантке Цветаевой, но и ко всей «несвоевременной литературе» – от «красного графа» Алексея Толстого до ЛЕФа. В третьем номере «ЛЕФа» за 1923 г. опубликовано несколько ответов на разгромную статью Л. С. Сосновского «Желтая кофта из советского ситца» (1923. № 113. 24 мая), в которой порицалась практика Госиздата тратить государственные деньги на бесполезный и несвоевременный «ЛЕФ». Персональные претензии были высказаны и главе московского Госиздата Н. Мещерякову. Например, в объемной статье напостовца Г. Лелевича «1923 год: литературные итоги» (1924. № 1. С. 71–102) в раздел «Бесплодная смоковница» будут помещены отклики как на цветаевское «Ремесло» (Берлин, 1923), так и отдельное издание книги А. Толстого «Аэлита (Закат Марса»)» (М.; Пг: ГИЗ, 1923). В случае Цветаевой Госиздат только упоминается – как курьез, предшествующий эмиграции: «Цветаева печатает свои стихи и в нашем добросердечном Госиздате, и в эсеровских “Современных записках”, но душа ее вряд ли испытывает подобное раздвоение. Идеологически и психологически Цветаева – целиком эмигрантка». Здесь же Алексей Толстой, автор «Аэлиты», опубликованной отдельной книгой именно в Госиздате, аттестуется авто- ром обзорной статьи в качестве «аристократического стилизатора старины, у которого графский титул не только в паспорте, но и в писательской чернильнице» (Лелевич, 1924. С. 79–80).
Безусловно, 1923–1924 гг. в истории московского Госиздата оказались кризисными. В 1923 г. и в центральной (С. Родов, Г. Ле-левич), и в региональной (Б. Лавренев, П. Скосырев) прессе появляются статьи с ультимативным требованием коррекции политики издательства, в каждой из них книги Цветаевой трактуются в симптоматическом ключе как признак очевидной болезни, постигшей московский Госиздат.
В объемной статье напостовца С. Родова «Оригинальная поэзия Госиздата» (1923. С. 139–160) последовательно проанализированы – с градацией от «самой безобидной» к наиболее зловредной – семь выпущенных Госиздатом книг стихов, каждой из которых был посвящен отдельный раздел: «Сусальный рай» – С. Клычкову, «Дама приятная не во всех отношениях» – П. Соловьевой, «Трувер господа нашего Иисуса Христа» – Г. Шенгели, «Грешница на исповеди у Госиздата» – М. Цветаевой, «Житие святой» – Е. Волчанецкой, «О душе, о господе и темной жизни» – П. Зайцеву, «Герой не нашего времени» – В. Ходасевичу. Статья начинается с иронического пассажа в сторону безответственного, с его точки зрения, руководителя Госиздата Н. Мещерякова, критикующего на страницах «Печати и революции» стихи М. Волошина. Комичность ситуации видится Родовым в том, что стихотворения Волошина были напечатаны в альманахе «Наши дни», изданном Госиздатом: «Единственное объяснение, которое мы можем допустить, это то, что тов. Мещеряков не знал о помещении этого стихотворения в издании Госиздата, так же как не знал, должно быть о выходе тех семи книг стихов, которых мы подробнее коснемся ниже. Иначе мы, вероятно, имели бы удовольствие читать новую статью тов. Мещерякова на тему “ О роли Госиздата в распространении мистики и анти-революционных идей ”. Так как мы до сих пор такой статьи не встречали, мы возьмем на себя не совсем благодарную задачу выполнить эту работу за Мещерякова и восполнить допущенный им пробел» (Там же. С. 143).
Родов расположил семь сборников стихов (от Клычкова до Ходасевича) по степе- ни эскапизма лирического «я»: от «самой безобидной» формы у С. Клычкова, где есть «Лада, дубравна, леший, Бова-королевич» и в художественном мире которой «до революции, до борьбы, до советской действительности никому никакого дела нет» (Там же. С. 147), – до скептика Вл. Ходасевича, для которого жизнь – «это «тихий ад», «блистательная кутерьма», «темно-лазурная тюрьма» (Там же. С. 154). Цветаевский раздел («Грешница на исповеди у Госиздата»), посвященный «Верстам I», входит в условно религиозный кластер статьи, куда критик включает также П. Соловьеву, которой «хорошо только в церкви и на небесах», «трувера господа нашего Иисуса» Г. Шенгели, а также Е. Волчанецкую, несколько отличающуюся от «отчаянной грешницы» Цветаевой ореолом «святости» и петроградской пропиской. «Культ богородицы и церкви стоит в центре книги М. Цветаевой, – отмечает критик. – Среди “Стихов о Москве” есть одно, которое мы с особым удовольствием предложили бы комсомолу распевать под окнами Госиздата в качестве серенады» (Там же. С. 149–150). В финале статьи сформулированы три вопроса: «1) Как могло случиться, что эти книги изданы Госиздатом? 2) Как Госиздат сам будет квалифицировать факт издания этих книг? 3) Как будет действовать Госиздат в дальнейшем?» (Там же. С. 160), дискурсивная природа которых выходит за рамки классического критического обзора, сближая обзорную статью с политическим доносом.
Очевидные вопросы, возникающие у современного исследователя Цветаевой, связаны с невозможностью (прежде всего из-за отсутствия должного документирования – регулярного дневника, полного объема эпистолярного наследия и пр.) экстраполяции в и дения ею литературной ситуации в Советской России. Для большинства поэтов, как из ближнего (Волошин, Парнок, Герцык), так и дальнего (Ахматова, Кузмин) ее окружения наступающий 1924 г. связан с закреплением состояния «внутренней эмиграции», постепенным вытеснением их из печати и актуального литературного процесса.
Не могла ускользнуть от внимания Цветаевой и широкая дискуссия в эмигрантской среде вокруг доклада И. Бунина «Миссия русской эмиграции» (Париж, 16 февраля 1924 г.). Идеология отчуждения / самоизо- ляции от современной России, враждебная установкам Цветаевой и характерная для правого политического дискурса, закреплялась в бунинском докладе метафорами русской эмиграции: от народа Израилева (сюжет исхода из Египта) – до восходящих к знаменитой опере кавалера Глюка хоров «миллионов душ, облеченных в траур» (Бунин, 1998. С. 149).
С другой стороны, Цветаева могла отреагировать и на отдельные факты советской литературной жизни. Если в качестве источника знаний о «дуновениях» рассматривать хронику советской литературной жизни в эмигрантской прессе, то там не раз сообщалось о позитивных явлениях (выход новых книг, участие в вечерах и сборниках), связанных с именами Пастернака и Мандельштама. Не редко также упоминались имена бывших эмигрантов А. Белого и А. Толстого, прежде всего в связи с литературными дискуссиями и издательскими проектами.
Насколько внимательно Цветаева изучала газеты и вникала в подробности литературной политики осенью 1923 и в начале 1924 г. – этот вопрос оставим открытым. Однако в июньском письме Пастернак расскажет своему адресату о целом веере событий, связанных с ее именем:
«Я черт знает сколько уже ничего не писал, а стихи писать, наверное, разучился. Между прочим, я Ваши тут читал. Цветаеву, Цветаеву, кричала аудитория, требуя продолжения. Часть Ваших стихов будет напечатана в журнале “Русский современник”. Туда же одно лицо давало хорошую статью о Вас. (Вы этого человека не знаете, мальчик, воспитанник Брюсовского Института, исключенный за сословное происхождение, знающий, философски образованный, один из “испорченных” мною). Они статьи не поняли и возвратили. Хочу писать и я статью. А бобровскую в “Печати и революции” получили? Вздорная, но сочувственная» (Цветаева, Пастернак, 2008. С. 98).
Несмотря на то что пастернаковское письмо не может считаться прямым источником необъяснимого оптимизма, охватившего Цветаеву весной 1924 г., так как было написано и получено спустя два месяца после делового предложения Госиздату, все же отметим, что оно принадлежит тому же самому периоду в ее биографии. Сама же ситуация эмиграции, усугубленная изо- ляцией в пражском предместье, весьма способствовала деформации видения Цветаевой актуальных издательских и политических конвенций в покинутой ею два года назад литературной метрополии. На этом фоне факт публикации стихотворений в «Русском современнике» мог быть прочитан затосковавшей Цветаевой в качестве пусть и небольших, но положительных подвижек в советской литературной среде.
Список литературы "Грешница на исповеди в госиздате": книга стихов М. Цветаевой "Версты. Вып. I" в ранней советской критике
- Издание художественной литературы в РСФСР в 1919-1924 гг.: Путеводитель по Фонду Госиздата / Сост. Л. М. Кресина, Е. А. Динерштейн. М.: РОССПЭН, 2009. 462 с.
- Лукницкий П. Н. Труды и дни Н. С. Гумилева. СПб.: Наука, 2010. 893 с.
- Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. Приложение. Летопись жиз-ни и творчества / Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко, Л. М. Видгольфа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М.: Прогресс-Плеяда, 2014. 536 с.
- Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой: Идеология - поэтика - идентичность автора в контексте эпохи. М.: Новое лит. обозрение, 2002. 464 с.