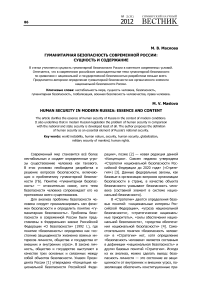Гуманитарная безопасность современной России: сущность и содержание
Автор: Маслова Мария Валерьевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Юриспруденция
Статья в выпуске: 2 (8), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье уточняется сущность гуманитарной безопасности России в контексте современных условий. Отмечается, что в современном российском законодательстве тема гуманитарной безопасности по сравнению с национальной и государственной безопасностью разработана меньше всего. Предлагается авторское определение гуманитарной безопасности как органического элемента национальной безопасности России.
Нестабильность мира, сущность человека, безопасность, гуманитарная безопасность, глобализация, военная безопасность человечества, права человека
Короткий адрес: https://sciup.org/14113675
IDR: 14113675
Текст научной статьи Гуманитарная безопасность современной России: сущность и содержание
Современный мир становится всё более нестабильным и создает определенные угрозы существованию человека как такового. В этих условиях необходима разработка и решение вопросов безопасности, включающих и проблематику гуманитарной безопасности (ГБ). Понятие «гуманитарная безопасность» — относительно новое, хотя тема безопасности человека сопровождает его на протяжении всего существования.
Для анализа проблемы безопасности человека следует проанализировать сам феномен безопасности и определить понятие «гуманитарная безопасность». Проблемы безопасности в современной России были представлены в Федеральном законе Российской Федерации «О безопасности» (1992 г.), где понятие «безопасность» определено как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз». В законе личность, общество и государство выступают в качестве трех основных и связанных между собой объектов безопасности. Указом Президента России [1] утверждена «Концепция национальной безопасности Российской Феде- рации», позже [2] — новая редакция данной «Концепции». Совсем недавно утверждена «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» («Стратегия») [3]. Данные федеральные законы, как базовые в организации вопросов организации безопасности в стране, в качестве объекта безопасности указывают безопасность человека (составной элемент в системе национальной безопасности).
В «Стратегии» даются определения базовых понятий: «национальные интересы Российской Федерации», «угроза национальной безопасности», «стратегические национальные приоритеты», «силы обеспечения национальной безопасности», «средства обеспечения национальной безопасности» [4]. Самостоятельного понятия «безопасность человека» в «Стратегии» нет, хотя определение «безопасность человека» является составным в дефиниции «национальная безопасность» и других базовых понятий «Стратегии». Исходя из их анализа, можно сделать вывод: безопасность личности — это состояние ее защищенности от внутренних и внешних угроз, позволяющее обеспечить конституционные пра- ва, свободы, достойные качество и уровень жизни гражданина Российской Федерации. В то же время нужно учитывать тот факт, что граждане России в условиях развития глобализации учатся, работают и зачастую отдыхают за пределами страны.
«Стратегия» дает определение безопасности: «Безопасность — совокупность актуальных факторов, обеспечивающих благоприятные условия для развития России, жизнеспособности государства и достижения Национальной Цели, Социального Идеала — благополучия всех граждан и семей; целесообразного развития и сохранения фундаментальных ценностей и традиций народов Российской Федерации; нормальных отношений Личности и Государства; способности эффективно преодолевать любые внешние угрозы; руководствоваться своими национальными интересами» [5, с. 306]. Впервые акцент делается не только на том, от чего защищаемся (вызовы и угрозы), но и что защищается (национальные цели, социальный идеал, фундаментальные ценности, нормальные отношения Личности и Государства). Это принципиальный момент: если не решен вопрос своего самоопределения, личностного, социального, государственного, то нельзя определить — есть угроза или нет. Здесь лежит еще один принципиальный методологический аспект решения проблем безопасности: без осознания того, что ты есть, нельзя определить и вызовы и угрозы. Этот методологический аспект значим для любого общества и для любой эпохи.
Мы считаем, что гуманитарная безопасность — это состояние общественных отношений внутри страны и на международной арене, гарантирующее защищенность целей, идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и культуры человека, семьи, народа и обеспечивающее их жизнедеятельность, устойчивое функционирование и развитие прав и обязанностей, положительных свобод для всех.
Нужно учитывать, что формализм и отказ от детального анализа содержания целей, идеалов, ценностей и интересов ведет либо к чрезмерным обобщениям и предельно широким отвлеченным от реальной жизни понятиям, за которыми практически и нет никакого конкретного содержания, либо к единичным по содержанию понятиям. В первом случае мы приходим к бессодержательным, так на- зываемым «общечеловеческим ценностям», а во втором — к предельному индивидуализму и субъективизму целей, идеалов, ценностей и интересов. В этой ситуации проблематичным становится и само понятие человечества, понимаемого как социальность. По этому пути пошел Запад, выработав в своих недрах представление о человеке как индивиде. Это, в свою очередь, разрушило представление о социальности как органическом условии развития личности.
Если цели, идеалы, ценности и интересы носят сугубо индивидуальный характер, то все социальные общности от семьи до народа и семьи народов — искусственные формальные образования. Тогда конец социального и конец человека. Человечество превратится в механическую совокупность ничем и никак не связанных между собой индивидов. Предельная свобода человека воплощается в тотальном отказе от всех социальных связей, в отказе от любой формы родства (отцовства, братства, супружества, дружбы). Таким образом, можно утверждать, что определенную угрозу безопасности личности и обществу несёт формальный характер в определении целей, идеалов, ценностей и интересов личности и общества России.
Нужно также учитывать, что реализм целей, идеалов, ценностей и интересов при их реализации и воплощении принимает динамический характер. Сама история тогда предстает как социокультурная динамика [6, с. 1176], потому что в истории конкретный человек и конкретное общество стремятся к определенным целям, идеалам, ценностям и интересам, реализуют и воплощают их в жизнь. Само общество, государство и личность предстают в качестве динамических социальных и культурных систем. В этом контексте формируется еще один вектор безопасности Российской Федерации — временной, а не только пространственный. Уместно было бы говорить о хронотопическом аспекте безопасности. В качестве методологического средства здесь выступает понятие хронотопа, выражающее единство пространственно-временных характеристик существования и развития личности, общества и государства России на основе соответствующих смыслов, целей и ценностей. Разрушение хронотопа есть угроза для бытия человека. В целях своей безопасности человек должен хранить не только географиче- ское пространство и физическую среду своего обитания, но и пространство историческое. Утрата истории — это угроза вырождения человека, так как без истории нет будущего.
Отказ от конкретного содержательного анализа ведёт в конечном итоге к той модели глобализации, где люди объединяются в формальные структуры, лишенные органической сложности и структурированности. Возникает такое состояние человека и человечества, которое можно выразить понятиями одномерности и одноуровневости, — сеть индивидов, связанных между собой анонимными формальными искусственными связями типа социальных сетей. Уже Г. Маркузе зафиксировал сужение человека, представив его в феномене «Одномерный человек» [7, с. 368]. Вместе с формированием одномерного человека формируется феномен «плоского социального мира». Этот аспект и тенденция развития человечества детально исследованы Т. Фридманом [8, c. 601].
Современная Россия нуждается в защищенности всего своего культурно-исторического и геополитического пространства как среды рождения, формирования, развития человека как определенного социокультурного типа.
Либеральной общественностью ныне уже ставится вопрос: для того чтобы Россия имела будущее, нужна модернизация. Но модернизация не идёт потому, что ей мешает русская культура, которая предельно антикапи-талистична и не стыкуется с соответствующим антропологическим типом Запада как цивилизации. Эти несоответствия показаны в некоторых работах [9]. С другой стороны, сама Россия рассматривается как антигуманная, античеловеческая среда, подлежащая тотальной зачистке и демонтажу. Примечательна в этом отношении позиция Г. Павловского, который рассматривает Россию как болезнь, а геосанитарию как бизнес [9, с. 3—5]. В роли геосанитаров выступает «большая геополитическая шестерка» (публицистическая литература): Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина, Грузия. В качестве античеловечной и антигуманной цивилизации видел Россию и А. И. Ракитов — советник Б. Н. Ельцина [10]. «Россия является античеловечной социальной системой по причине выпадения из динамики мирового цивилизационного развития. Поэтому Россия должна предельно радикализи- роваться, чтобы стать безопасной средой для развития человека» [11]. Из этого следует вполне простой и очевидный вывод: для того чтобы защитить и спасти человека, необходимо уничтожить Россию как порочную социальную, политическую и цивилизационную систему. В этой ситуации понятие ГБ становится очень эффективным средством социальной борьбы, вмешательства во внутренние дела России и не только России со стороны тех, кто монополизировал на методологическом уровне статус гуманитарной безупречности, безопасности и стабильности.
В международном праве тема ГБ стала активно обсуждаться под влиянием колоссальных людских потерь, которые понесло человечество в ходе двух мировых войн и десятков вооруженных конфликтов в ХХ веке по всему миру. Так постепенно формируется понимание ГБ, а именно как безопасности от вооруженного насилия и смерти в ходе вооруженного конфликта как с внешним, так и с внутренним врагом.
Под ГБ очень часто понимают лишь сферу защищённости прав человека. Дж. Хитер-шоу (представитель Лондонской школы экономики) рассматривал ГБ в контексте прав человека [13, с. 9]. В свою очередь, понятие ГБ, приравненное к правам человека, активно используется в качестве методологического и практического средства в межгосударственной борьбе: война в Югославии, «гуманитарные миссии» США и НАТО в отношении других стран (Египта, Туниса, Ливии, Сирии и др.). Репортажи из этих стран СМИ Запада полны понятиями «гуманитарная миссия», «гуманитарная безопасность», «гуманитарная операция» и им подобными.
Данная ситуация возможна, поскольку современное международное право ориентировано на два принципа: «права человека» [14] и «право наций на самоопределение» [15]. Часто эти два принципа вступают в противоречие друг с другом, активно используются Западом в качестве утверждения своего господства в глобальном масштабе. В конечном итоге мы приходим к тому, что понятие и практика обеспечения ГБ переходит в свою противоположность — гуманитарную интервенцию, а такие понятия, как «гуманитарная миссия», «гуманитарная акция», становятся не чем иным, как иезуитским циничным прикрытием и обеспечением банальной интер- венции. Показательной является публикация [16], в которой автор показывает, что либерально-демократические государства Запада вменили себе право вооруженного вмешательства под прикрытием разговоров о нарушении прав человека, о необходимости их защиты (Запад позиционирует себя в качестве единственного гаранта обеспечения ГБ в современном мире). Такие идеи и поведение выросли на почве дихотомической модели мира «цивилизация — варварство». Цивилизация — это высокий уровень развития, гуманности, образованности, света. Варвары — это дикари, антигуманисты, невежды и темнота. Что является воплощением цивилизации? Европа, Запад в целом. Следовательно, Запад и есть гарант и единственный исторический субъект, способный обеспечить ГБ в мире, в том числе и в России. Мы не завоеватели, мы — защитники! Вот мировоззренческая, методологическая и мотивационноповеденческая установка Запада в своих актах интервенций и войн. Применительно к России эта позиция Запада реализуется до сих пор под прикрытием так называемого «норманизма», исторической концепции, согласно которой русские в древности признали собственную дикость и призвали добровольно немцев в свои земли, которые велики и обильны, но не имеют порядка [17]. Если внимательно посмотреть на историю Нового времени, то можно увидеть, что большинство войн развязано именно Западом. Д. Рогозин отмечает, что возможную наземную операцию Североатлантического альянса в Ливии могут подать как обеспечение гуманитарных конвоев [18].
В реальной политике НАТО не учитывает «гуманитарную безопасность»: «К приоритетам таких военно-политических организаций, как НАТО, вопрос ГБ не принадлежит. Этим объясняется неоднозначность в оценках их деятельности на пространстве бывшей Югославии, где военно-политические задачи геополитического характера откровенно доминировали над социогуманитарными» [19]. Запад прикрывает свою агрессию «гуманитарными миссиями», ведущими к реальным гуманитарным катастрофам целых стран и регионов. В ходе гуманитарных акций конкретный человек становится еще менее защищенным; в их ходе гибнет, как правило, гражданское население (старики, женщины и дети).
В международной практике наблюдается динамика перехода решения вопросов безопасности от безопасности государства в сторону безопасности человека. В частности, Комиссия по глобальному управлению в отчете за 1995 год утверждала, что «безопасность людей должна расцениваться как цель такая же важная, как безопасность государств» [20].
Концептуально подход «гуманитарности» как международно-политической категории получил свое современное оформление в Стамбульской Хартии европейской безопасности (1999 г.). В результате своеобразного «гуманитарного сдвига» ориентации международно-политических организаций международное гуманитарное право приобретает качественно новое измерение [19]. «В настоящее время можно говорить о процессе институционализации проблем ГБ на международном уровне. Права человека и развитие человека переориентировали правовые, экономические и социальные действия, чтобы рассмотреть цели с перспективы их влияния на людей. Подход к безопасности человека признает взаимозависимость и взаимосвязи между миром людей и строится на этом, пытаясь продвигаться вперед в альянсы, которые совместно могут иметь намного большую силу» [21, с. 137]. В международной практике постепенно начинает возникать своеобразный прецедент, когда субъектом ГБ становятся исключительно международные структуры. Государство, наоборот, рассматривается в качестве одного из виновников, нарушителей прав человека и его безопасности. «Происходит эволюция понятия национальной безопасности на границе ХХ—ХХI столетий как необходимость перехода от такой, которая призвана обслуживать лишь интересы государства, к такой, которая стремится гармонично соединить интересы личности (человека), общества и государства. Уже речь идет о своеобразном (нормативно не узаконенном) международном режиме «прав человека» [19].
А. Ю. Полтораков отмечает: «Во многих случаях возникает противоречие между обеспечением политической безопасности государства и ГБ его народа (национального общества в целом или отдельных слоев населения). В условиях столкновения государственно-политических и социально-гуманитарных интересов защите прав человека должен принадлежать абсолютный приоритет. Воо- руженные конфликты предоставили достаточно примеров того, как абстрактные призывы к защите прав человека объективно служили оправданием терроризма» [19]. Противоречия между ГБ и безопасностью государства возникают тогда, когда личность, общество и государство становятся отчужденными по отношению друг к другу, то есть в рамках той ситуации, которая в марксизме описана как отчуждение государства. Ф. Энгельс в работе «Анти-Дюринг» отмечал, что государство возникает первоначально как форма организации общества и личностей в целях обеспечения коллективной безопасности. То есть государство — это институт, создаваемый обществом и отдельными личностями в целях решения проблем собственной безопасности. Однако в последующем возникают процессы, которые приводят к отчуждению государства от нужд общества и личности, и само государство превращается из социально-политического института для общества в господствующую над обществом силу. В классовых обществах государство является инструментом доминирования господствующего класса над другими классами и личностями. Господствующий класс и его представители являются защищенными, а эксплуатируемые массы — нет. Кроме того, между классами существует социальная борьба.
Одной из проблем современности с учетом процессов глобализации является характер деятельности международных организаций, многие из которых так пекутся о безопасности человека, что сами нарушают права человека. Эти организации никем и никогда не избирались, они не подконтрольны никому (ни партиям, ни государствам). Кроме того, эти структуры являются бюрократическими, и по отношению к ним еще более чем к национальному государству действует принцип, выраженный русской поговоркой: «До Бога — высоко, до царя — далеко!». Если далеко до своего царя, то еще дальше будет до царей мировых организаций. При этом нельзя оставлять без внимания тенденцию монополизации международными организациями проблематики ГБ.
Односторонность и однобокость в решении проблем ГБ недопустима. Но это происходит повсеместно. Запад предстает защитником всех обиженных и оскорблённых и может вмешиваться во внутренние дела других государств. Международные организации во многом завязаны на транснациональные корпорации и банки Запада. Они заинтересованы в интересах распространения своего господства уничтожить национальное государство как форму социальной и культурной организации общества и средства обеспечения безопасности.
Следует отметить, что монополизация международными организациями права на обеспечение ГБ во всем мире, в том числе и в России, на самом деле может и используется как информационное прикрытие и обеспечение установления Западом собственной модели глобализации и в своих интересах [22].
Связь понятия и практики ГБ как прикрытия интервенции и вмешательства во внутренние дела другого государства становится все более очевидной. «Кроме того, как показывает, в частности, опыт операций в Ираке и Афганистане, а также российско-грузинский конфликт 2008 г., исчезает граница между вмешательством гуманитарным (которое является вызовом национальному суверенитету) и вмешательством политическим (которое является нарушением государственного суверенитета, что противоречит нормам и принципам ООН)», — пишет А. Ю. Полтораков [19]. Этот аспект исследуется также А. В. Сухаревым [23].
ГБ человека не абстрактное, но вполне конкретное понятие, связанное с доминирующей антропологической моделью в том или ином обществе. Эта антропологическая модель не является раз и навсегда данной тому или иному народу неведомыми силами, а является актом свободного самоопределения и носит культурно-исторический характер. Методологической основой ГБ должно быть признание онтологической свободы человека, и в акте этой свободы тот или иной человек реализует ту или иную антропологическую модель, являющейся одновременно и архетипом общества. Поэтому между гуманитарной и общественной безопасностью существует неразрывная диалектическая культурноисторическая связь. Данный тезис легко аргументировать на примере соотношения таких исторических явлений, как «советский человек» и «советское общество». Дискредитация образа советского человека в образе «совка» использовалась в качестве средства исторической борьбы против советского общества. В свою очередь, дискредитация СССР как типа общества, где реализовывались концепции «тоталитарного государства», «диктатуры», ГУЛАГа, «порабощенных народов» и т. п., неуклонно понижала жизненный потенциал советского человека. В конечном итоге не стало ни советского общества, ни советского человека как культурно-исторических феноменов. Аналогичная ситуация сейчас разворачивается вокруг таких исторических образований, как «русский народ» и «русский человек».
В то же время чаще всего в современной философской литературе человек мыслится как биосоциальное существо. Поэтому сразу можно выделять два основных уровня ГБ: биологический и социальный. Следует отметить, что данная модель человека в большей степени связана с позитивистско-прагматическими и материалистическими философскими концепциями. Наряду с этим существуют метафизические, религиозно-философские, идеалистические, антропологические концепции. Не углубляясь в детальный анализ этих концепций, отметим, что в рамках философской традиции детально разрабатывался метафизический аспект безопасности человека. Наиболее глубоко данная проблематика исследована великим русским философом и писателем-романистом М. Ф. Достоевским. Предельно лаконичной формулой метафизических угроз для безопасности человека является позиция, высказанная устами Дмитрия Карамазова: «Дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей». В данном случае и сам человек мыслился в метафизической оптике как метафизический, а не только биологический или социальный феномен.
На Западе этот же аспект безопасности будет осмыслен в несколько ином понятийном и концептуальном плане. Наибольший вклад здесь сделает школа психоанализа, начиная с З. Фрейда и его концепции бессознательного до К. Г. Юнга, введшего в научный оборот понятие «коллективного бессознательного». В позитивистской литературе метафизические деструктивные энергии и силы, действующие в человеке, или бессознательные стихии психоанализа были идентифицированы как разновидность безусловных инстинктов, доставшихся человеку от звериного этапа в эволюции человека.
Мы видим, что и в отечественной, и в зарубежной философии, несмотря на различие гносеологических дискурсов в отношении человека, существует четкое представление о том, что человек является ареной противостояния определенных нечеловеческих сил, энергий, детерминаций, чаще всего дихотомического характера, которые на уровне культуры символически предстают как силы добра и зла, развития и распада, прогресса и регресса, жизни и смерти, восхождения и падения.
Изложенное выше свидетельствует о необходимости внесения корректив в структуру уровней безопасности человека. Нам представляется, что в целом в ГБ можно и нужно выделить три основных уровня: метафизический, или бессознательный; биологический; культурно-исторический, или социальный. Данная структура уровней безопасности актуальна для обеспечения ГБ не только в России, но и в мире. Ведь если Запад стремится окончательно утвердить мир в его материальности и искусственности, то этим самым выбраковываются все культуры и цивилизации, которые сохраняют свою идентификацию и практику социального бытия в рамках традиции, которая является чаще всего и метафизической по своему генезису. Россия также относится к традиционалистскому типу. Но этим самым она сохраняет в себе потенциал альтернативы развития человечества [24].
В заключение хочется отметить, что вопросы гуманитарной безопасности в современном мире и в России становятся предельно актуальными. Мы сделали акцент на наиболее значимых аспектах данной темы, сама же проблема гуманитарной безопасности, ее обеспечения нуждается в широком всестороннем научном исследовании и общественном обсуждении.
-
1. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300.
-
2. Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24.
-
3. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537.
-
4. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html .
-
5. Кузнецов, В. Н. Идеология / В. Н. Кузнецов. М., 2005.
-
6. Сорокин, П. А. Социальная и культурная динамика / П. А. Сорокин. М. : Астрель, 2006.
-
7. Маркузе, Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. М. : REFL-book, 1994.
-
8. Фридман, Т. Плоский мир: Краткая история XXI века / Т. Фридман. М. : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2006.
-
9. Павловский, Г. Россия как болезнь, геосанитария как бизнес / Г. Павловский // Россия и «санитарный кордон». М. : Изд-во «Европа», 2005.
-
10. Ракитов, А. И. Цивилизация, культура, технология и рынок / А. И. Ракитов // Вопр. философии. 1992. № 5.
-
11. Яковлев, А. Н. Куда качнется интеллигенция / А. Н. Яковлев // Российская газета. 1996. 8 июня.
-
12. Чуприй, Л. В. Гуманитарная безопасность Украины в условиях современности / Л. В. Чу-прий. Режим доступа: http://opros-dim.com.ua/ index.php?/безопасность/gumanitarnaja-bezopasnost-ukrainy.html.
-
13. Хитершоу, Дж. Практическое обеспечение «гуманитарной безопасности» в Центральной Азии. Пример противоречивых представлений о мире в Таджикистане / Дж. Хитершоу // Избр. материалы Междунар. конф. «Гуманитарная безопасность и мир в Центральной Азии» (8—9 сентября 2005 г. Бишкек, Кыргызстан). Бишкек, 2005.
-
14. См.: Декларация о правах человека.
-
15. См.: Декларация о национальном самоопределении.
-
16. Мясников, В. Гуманитарные интервенции перекраивают мир / В. Мясников. Режим доступа: http://nvo.ng.ru/wars/2007-12-07/1_inter-
- vention.html.
-
17. Изгнание норманнов из русской истории : сб. ст. и материалов. М. : НП ИД «Русская панорама», 2010; Варяго-русский вопрос в историографии : сб. ст. и материалов. М. : НП ИД «Русская панорама», 2010.
-
18. Рогозин: наземную операцию в Ливии могут замаскировать. Режим доступа: http://www. newsinfo.ru/news/2011-04-18/asd/751770/.
-
19. Полтораков, А. Ю. Политика безопасности: военно-политические и социально-гуманитарные приоритеты / А. Ю. Полтораков. Режим доступа: http://flot2017.com/item/analitics/18182 .
-
20. Our Global Neighbourhood. Report of the Commission on Global Governance. Oxford University Press, 1995. P. 81.
-
21. Безопасность человека сегодня: Комиссия по безопасности человека. Нью-Йорк, 2003.
-
22. См.: Штоль, В. В. Армия «Нового мирового порядка» / В. В. Штоль. М. : ОГИ, 2010.
-
23. См.: Сухарев, А. И. Политика гуманитарной безопасности (К вопросу о теории политики и практике безопасности) / А. И. Сухарев // Безопасность Евразии. 2000. № 1.
-
24. См.: Шубарт В. Европа и Душа Востока (М., 1997), а также: После капитализма. Манифест движения «Суть времени». Режим доступа: http://eot.su/sites/default/files/manifest_eot.pdf .
Список литературы Гуманитарная безопасность современной России: сущность и содержание
- Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300.
- Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24.
- Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537.
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html.
- Кузнецов, В. Н. Идеология/В. Н. Кузнецов. М., 2005.
- Сорокин, П. А. Социальная и культурная динамика/П. А. Сорокин. М.: Астрель, 2006.
- Маркузе, Г. Одномерный человек/Г. Маркузе. М.: REFL-book, 1994.
- Фридман, Т. Плоский мир: Краткая история XXI века/Т. Фридман. М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2006.
- Павловский, Г. Россия как болезнь, геосанитария как бизнес/Г. Павловский//Россия и «санитарный кордон». М.: Изд-во «Европа», 2005.
- Ракитов, А. И. Цивилизация, культура, технология и рынок/А. И. Ракитов//Вопр. философии. 1992. № 5.
- Яковлев, А. Н. Куда качнется интеллигенция/А. Н. Яковлев//Российская газета. 1996. 8 июня.
- Чуприй, Л. В. Гуманитарная безопасность Украины в условиях современности/Л. В. Чуприй. Режим доступа: http://opros-dim.com.ua/index.php?/безопасность/gumanitarnaja-bezopasnost-ukra iny.html.
- Хитершоу, Дж. Практическое обеспечение «гуманитарной безопасности» в Центральной Азии. Пример противоречивых представлений о мире в Таджикистане/Дж. Хитершоу//Избр. материалы Междунар. конф. «Гуманитарная безопасность и мир в Центральной Азии» (8-9 сентября 2005 г. Бишкек, Кыргызстан). Бишкек, 2005.
- Декларация о правах человека.
- Декларация о национальном самоопределении.
- Мясников, В. Гуманитарные интервенции перекраивают мир/В. Мясников. Режим доступа: http://nvo.ng.ru/wars/2007-12-07/1_intervention.html.
- Изгнание норманнов из русской истории: сб. ст. и материалов. М.: НП ИД «Русская панорама», 2010; Варяго-русский вопрос в историографии: сб. ст. и материалов. М.: НП ИД «Русская панорама», 2010.
- Рогозин: наземную операцию в Ливии могут замаскировать. Режим доступа: http://www. newsinfo.ru/news/2011-04-18/asd/751770/.
- Полтораков, А.Ю. Политика безопасности: военно-политические и социально-гуманитарные приоритеты/А. Ю. Полтораков. Режим доступа: http://flot2017.com/item/analitics/18182.
- Our Global Neighbourhood. Report of the Commission on Global Governance. Oxford University Press, 1995. P. 81.
- Безопасность человека сегодня: Комиссия по безопасности человека. Нью-Йорк, 2003.
- Штоль, В. В. Армия «Нового мирового порядка»/В. В. Штоль. М.: ОГИ, 2010.
- Сухарев, А. И. Политика гуманитарной безопасности (К вопросу о теории политики и практике безопасности)/А. И. Сухарев//Безопасность Евразии. 2000. № 1.
- Шубарт В. Европа и Душа Востока (М., 1997), а также: После капитализма. Манифест движения «Суть времени». Режим доступа: http://eot.su/sites/default/files/manifest_eot.pdf.