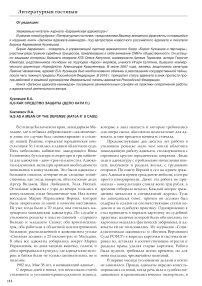H2S как средство защиты (дело Кати П.)
Автор: Кузнецов Борис Аврамович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Литературная гостиная
Статья в выпуске: 3 (46), 2020 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140250395
IDR: 140250395
Текст обзорной статьи H2S как средство защиты (дело Кати П.)
В столице Колымского края, легендарном Магадане, где я отбывал добровольное «заключение» и лишь по случаю был «амнистирован» в столицу нашей Родины, городская юридическая консультация № 1 ютилась в здании областного суда. Пять небольших кабинетов: заведующего Вовы Головченко, бухгалтера и секретаря и три кабинета для адвокатов – двое–трое на один стол. Адвокаты-надомники лишь при крайней необходимости появлялись в консультации. Это были адвокаты с большим опытом, которые вели сложные хозяйственные, как тогда говорили, обэхээсэсные дела: Артур Вильков, Яша Любецкий, Толя Неспай. Остальные адвокаты с утра до вечера толклись в консультации, пили бесконечные чаи. Над всеми восседала Мария Израилевна Верная, которая была закреплена за мной в качестве наставника. Ей уже тогда было к 70 годам, она считалась матриархом магаданской адвокатуры. По службе в уголовном розыске я знал ее сыновей – старшего Володю и младшего Сашку; оба врачи-психиатры, оба работали в областной психиатрической больнице, расположенной в живописном уголке «Снежная долина» в 23 километрах от Магадана. В обед все адвокаты собирались вокруг Марии Израилевны, из дома тащили выпечку, салаты, и обед превращался в ритуал, где адвокатские истории и байки были не только занимательны, но и полезны.
1982 год. Мне 38 лет, я начинающий адвокат.
С первых дней я понял, что нескольких статей уголовного и уголовно-процессуального кодекса, которые я знал наизусть и которые требовались для опера сыска, абсолютно недостаточно для адвоката, и мне придется начинать с начала.
Предшествующие два десятка лет работы в уголовном розыске мало чем могли облегчить повседневную работу адвоката, столкнувшегося с огромным кругом юридических вопросов. Люди шли в адвокатуру с проблемами начисления пенсий, получения и раздела жилья, с трудовыми спорами. По совету Верной я сел на прием граждан. Адвокаты прием граждан не любили, а мэтры просто игнорировали. Денег эта работа не приносила – консультация стоила всего три рубля, а времени отбирала немало. Каждый вопрос гражданина заносился в специальный журнал. Туда же записывался ответ, причем он должен был содержать ссылки на соответствующие статьи кодексов и на судебную практику. Одновременно я стал приводить в порядок картотеку по судебной практике, наличие которой было обязательно, но картотека оказалась фактически заброшена, и адвокаты ей не пользовались. Из журналов «Социалистическая законность» и «Вестник Верховного Суда РСФСР» я вырезал карточки и систематизировал их, вставляя в соответствующие отрасли и разделы права, удаляя старые карточки. Работа была нудной, требовала много времени, но для меня оказалась чрезвычайно полезной.
В первые месяцы уголовными делами я почти не занимался. Правда, адвокаты нередко консультировались со мной, когда речь шла о судебно-медицинских и криминалистических экспертизах, в которых я неплохо разбирался. Несколько уголовных дел мне перепало от Марии Израилевны. Ее «коньком» были несложные уголовные дела с очевидным исходом, когда все чистосердечно признаются, и решается вопрос только о мере наказания. Если к ней обращались со сложными многоэпизодными хищениями, она направляла клиентов к мэтрам. Мне же от нее перепало несколько дел, связанных с техникой. Это было обвинение котельного машиниста Курбыко во взрыве парового котла на рыболовецкой плавбазе «Комсомолец Магадана» и некоторые другие, которые в короткий срок сделали мне адвокатское имя.
В один весенний день первых недель моей адвокатской работы в наш кабинет ворвалась стремительная Таня Хайдакина, высокая, с правильными чертами овального лица русской красавицы. Ей очень шла прическа с прямым пробором черных длинных волос, собранных на затылке. Татьяна не относилась к числу мэтров юриспруденции, но обладала поразительным чутьем на несправедливость.
– Слушай, Боренька, у меня небольшое, простенькое гражданское дело в горсуде в 10 часов, а я занята в областном суде. Возьми, пожалуйста, это дело и проведи его. Клиентка в коридоре.
Удаляясь, она одарила меня белозубой улыбкой и обдала запахом хороших духов.
Дело оказалось не таким уж простым. Катя Платонова – молодая высокая блондинка, уже побывавшая замужем и имевшая маленького сына, проживала с матерью и старшим братом в трехкомнатной квартире. Ее отец, бывший в разводе с матерью несколько лет, жил отдельно в комнате дома барачного типа. Катя была прописана у отца, он намеревался съехаться с другой женщиной, а из-за прописки взрослой дочери с ребенком что-то у них не срасталось. Катя выписалась из комнаты отца и попыталась прописаться в квартире матери, где она фактически всю жизнь жила. Но мать отказалась ее прописать и настаивала, чтобы Катя делила комнату с отцом, с которым поддерживала нормальные отношения. Делала это мать, по-моему, исключительного из вредности. Так и возникло это судебное дело по установлению в судебном порядке права на жилье.
Немного отвлекусь. Одним из столпов советской системы была прописка граждан по месту жительства. Не раз слышал и сам задавал вопрос: почему вы живете не по месту прописки? Вся Магаданская область в те времена была пограничной зоной, сын к отцу мог приехать только по вызову, разрешение на въезд давала милиция под контролем КГБ. Проживание без прописки исключалось: невозможно было устроиться на работу, поступить на учебу. Человек, не имевший прописки, если его один раз наказывали в административном порядке, привлекался к уголовной ответственности за нарушение паспортно-пограничного режима. Срок по статье 197 Уголовного кодекса РСФСР был небольшой – один год. В Магаданской области за проживание без прописки сажали ежегодно несколько тысяч человек, так называемых бичей (аналог московских бомжей). Я встречал бича, у которого было 18 (!) судимостей за нарушение погранично-паспортного режима. Бичи были сезонной проблемой для милиции: весной они все исчезали, работали в геологоразведочных экспедициях, на рыбной путине, а к зиме собирались в городе, жили на чердаках, в подвалах, в коробах отопления. Криминальной «погоды» они не делали, разве что разбирались между собой. Правда, выяснения, кто выпил чужой пузырек одеколона, часто заканчивались кровавыми трагедиями.
Я отвлекся на паспортный режим советского времени потому, что нынешние молодые люди этого не знают, а это немаловажные штрихи недавнего по историческим меркам времени: так контролировались жизнь общества, перемещения граждан и выбор ими места жительства, который частенько не был добровольным.
В Магаданском городском суде залов для судебных заседаний хватало только для рассмотрения уголовных дел, а гражданские дела рассматривали прямо в судейских кабинетах. Подойдя к кабинету нашей судьи, я увидел 10–12 человек. В центре восседала немолодая женщина обширных размеров.
– Эта моя мама, – прошептала Катя. – Она собрала соседей по подъезду, они все будут говорить, что я с матерью и братом никогда не жила. Мама работает в УРСе, снабжает их дефицитами.
Дефицитов в Советском Союзе хватало: от туалетной бумаги до радиоприемников, телевизоров и магнитофонов, особенно если речь шла о зарубежных. Впрочем, приемники «Спидола», которые выпускались в столице советской Латвии Риге, тоже не лежали на прилавках магазинов. В Магадане, рыбном раю, красная рыба и икра дефицитом, как в центральных районах страны, не были, зато была проблема с растворимым кофе, хорошим коньяком, даже армянским или грузинским, золотыми изделиями и книгами. Большинство дефицитных товаров доставалось по знакомству, немалую роль играла занимаемая должность в советских или партийных органах: для таких счастливчиков были открыты специ- альные магазины. Знакомства с работниками торговли особенно ценились.
В деле, кроме искового заявления, не было ни одного документа. Мне же предстояло доказать, что моя клиентка фактически проживала с матерью и братом. Я про себя ругнулся на Хайдаки-ну и понял, что процесс будет проигран вчистую. Надо искать повод и откладывать дело. Причина для отложения должна быть самая уважительная.
В те времена судей строго спрашивали за сроки рассмотрения дел – волокита вполне могла закончиться партийным взысканием, а то и потерей судейского кресла.
– Знаете, я что-то съел, отравился. Можно отложить процесс?
Судьей была молодая стройная женщина. Раньше меня с ней судьба не сводила.
– А вы кто?
– Я адвокат Кузнецов.
– Вы – из новеньких, сыщик бывший? Слышала. Так вот, мой дорогой, я процессы не откладываю. У вас что? Больничный? А раз нет, то садимся в процесс.
Сказано это было назидательным тоном, каким классный руководитель отчитывает пойманного за курением в туалете школьника.
Я пожал плечами.
В просторном судейском кабинете за большим столом восседала судья, а по бокам две преклонных лет дамы – народные заседатели, их в простонародье называли «кивалами»: судья, принимая какое-то решение, поворачивала голову то к одному, то к другому заседателю, а те отвечали неизменными кивками.
Вдоль стены стояло несколько стульев, на которых восседали Катина мама и ее брат, на краешке стула примостилась Катя.
– Слушается дело по иску… Дело слушается в составе председательствующего… народных заседателей… при секретаре… Есть отводы составу суда?
Я встаю.
– Отводов нет. Позвольте выйти?
Суд объявляет перерыв.
Одну за другой выкурил две беломорины, запершись в туалете.
– Продолжается процесс… Оглашается исковое заявление…
– Мне еще раз нужно выйти.
– Товарищ адвокат, вы мне срываете процесс… Быстрее, пожалуйста.
Еще минут через пятнадцать возвращаюсь в кабинет судьи. Исковое заявление, написанное на стандартном листе, еще не дочитано.
Третий раз обращаюсь к судье:
– Разрешите выйти?
Повисла зловещая пауза, судья подбирала эпитеты, которыми должна была публично меня осчастливить, и тут в полной тишине раздался стон моего настрадавшегося организма, рядом с которым залп «Авроры» показался бы хлопком лопнувшего надувного шарика. И в этой зловещей тишине, повисшей в кабинете, начал расползаться сероводородный запах.
У меня было такое ощущение, что дрогнули оконные стекла.
Заседатели медленно сползали под стол со своих стульев, не пытаясь даже скрыть разбиравшего их смеха.
– Ведь предупреждал же, – я пожимал плечами, переминался с ноги, изображая смущенность и ликуя в душе.
– Дело откладывается, – поморщилась судья то ли от удушливого запаха, то ли из-за необычности ситуации.
Слух о происшествии в суде долетел до консультации прежде, чем мы туда вернулись. Тряслась в беззвучном хохоте, лежала на столе Мария Израилевна.
– Далеко пойдешь, – сказала Верная, заговорщицки подмигивая.
Смущенная Катя ждала Хайдакину, видимо, собираясь у нее выяснить, что за адвоката та ей подсуропила.
С одной стороны, я добился отложения дела, и это здорово: есть время для скрупулезной подготовки; с другой стороны, я понимал, что теперь нужна «чистая победа»: иначе после сегодняшнего меня не просто превратят в адвокатскую пыль, но еще и будут посыпать ею голову всех оступившихся новичков. Ведь это было первое дело в моей адвокатской практике. Есть целый набор стандартных доказательств, с помощью которых можно установить, жил фактически человек по конкретному адресу или нет. Подготовленные за день запросы были разнесены, и через неделю у меня на столе красовалась пачка ответов: из поликлиники, где стоял на учете Катин малыш, – о том, что врач и медсестра посещали его на квартире; справка из ПТУ, где училась Катя; информация почтового отделения о том, что комсомолка Катя выписывала домой «Комсомольскую правду» и местный «Магаданский комсомолец»; справка из милиции, что потерпевшая Катя Платонова была ограблена в подъезде собственного дома.
«Это все неплохо, – размышлял я про себя, – но этого мало», – живо представляя врущих свидетелей.
Время подумать оставалось, моя адвокатская корзина была пуста, и дело по иску Кати Платоновой оказалось единственным у меня в производстве.
– Петя, ты будешь у себя в опорном пункте вечером? Это Борис Кузнецов. Я зайду.
Петя Лерник, участковый инспектор милиции в микрорайоне «31 квартал», где жила Катя Платонова, небольшого роста, степенный, один из лучших участковых в городе.
– Как ты допускаешь, что у тебя, лучшего участкового, люди живут без прописки, да не где-нибудь, а в доме, где опорный пункт? Ну ладно. Составь на Катю Платонову протокол… И опроси мать и брата, да поподробнее: когда получили квартиру, состав семьи, кто живет фактически. Сам знаешь, не мне тебя учить…
Объяснение матери и брата я у Лерника забрал. Ни Катина мать, ни ее брат не сопоставили появление участкового, составлявшего протокол на нарушителя паспортного режима, с предстоящим судебным процессом, на что я и рассчитывал. Сам же Лерник, по-моему, в тот момент даже не понял, что я ушел в адвокатуру, и, как мне кажется, держал меня по-прежнему за большого начальника из УВД области.
Теперь предстояло подготовить сам процесс, и я сел за сценарий…
В уголовном розыске приходилось планировать работу по делу – неважно, было ли это уголовно-розыскное дело, которое заводилось по нераскрытым преступлениям, или агентурное, когда в разработке находился объект, занимавшийся, по оперативным данным, преступной деятельностью, или речь шла об оперативной комбинации, например о вводе агента в разработку или, наоборот, о его выводе из разработки.
На чистом листе бумаги я написал: «Сценарий судебного процесса по делу Кати Платоновой».
Не буду приводить этот текст, могу только заметить, что я от него не отступил ни на йоту.
Через месяц рассмотрение дела возобновилось. На этот раз процесс проходил в зале судебного заседания. Посмотреть на первое дело своего нового коллеги пришли свободные от процессов адвокаты, сочувствующие и знакомые Кати, я заметил даже одного из судей городского суда.
Судья, скрывая улыбку, не преминула поинтересоваться моим здоровьем:
– Надеюсь, сегодня никаких особых событий не предвидится?
– Нет, я поправил здоровье, и никаких сюрпризов вам ожидать не стоит.
– Ходатайства со стороны истца имеются?
– Нет. Пока нет.
Кратко, достаточно сумбурно, тихим сбивчивым голосом, строго по сценарию, излагаю суть иска.
Поскольку сторона истца ходатайств не заявила, начался допрос свидетелей стороны ответчика.
Первым перед судейским столом предстал Дима Балашов, который работал в нашем УВД инспектором отдела исправительно-трудовых учреждений. Он очень смутился, увидев меня за адвокатским столом. Дима врал без вдохновения, сбивчиво и непоследовательно, поймать его при допросе не составляло труда, но я дал ему навраться вволю. Когда его допрос был окончен, обращаюсь к судье:
– Товарищи судьи, прошу свидетеля Балашова задержаться в зале после заявления ходатайства, – и заявляю ходатайство о приобщении документов к материалам дела.
Читаю громким, поставленным голосом, акцентирую внимание интонациями на тех местах, где указан адрес проживания Кати, каждый документ – с паузами… Передаю на стол судье.
– Прошу приобщить к материалам дела справку врача-педиатра, которая подтверждает, что Екатерина Платонова и ее сын проживали по адресу, где прописаны ее мать и брат.
Судьи послушно кивают.
– Прошу также приобщить к материалам дела справку «Союзпечати», согласно которой комсомолка Екатерина Платонова была подписана на газеты «Комсомольская правда» и «Магаданский комсомолец». Адрес доставки соответствует адресу, по которому проживают ее мать и брат.
Таким же образом к делу были приобщены ответ из Магаданского ГОВД о том, что в подъезде по тому же адресу Катя П. была ограблена, а в заявлении о преступлении сообщила адрес, где проживает с матерью и братом. За ними последовали еще шесть справок и ответов такого же содержания.
– У вас еще что-то?
– У меня вопрос к ответчикам…
Предъявляю объяснения, добытые Лерником, матери и брату.
– Это ваша подпись? А это – ваша?
В «стане противника» – полная растерянность. Оглашаю объяснение матери: «Моя дочь Катя все эти годы проживала вместе с нами, хотя была прописана у отца на улице Парковой…».
Немая сцена продолжалась, когда оглашалось объяснение брата.
– Вы признаете, что Катя с момента рождения проживала с вами в трехкомнатной квартире по адресу…?
– Да.
– А вы? – я повернулся к брату.
– Подтверждаю.
– У меня еще одно ходатайство. Прошу возбудить уголовное дело на свидетеля Балашова за дачу ложных показаний и взять его под стражу в зале суда.
По действовавшему тогда Гражданско-процессуальному кодексу уголовное дело в гражданском процессе могли возбудить одновременно с принятием решения по существу гражданского иска.
Я знал, что судья – новенькая, неопытная, к тому же и растерялась от неожиданности и напора, но трюк сработал: суд удалился в совещательную комнату.
Все участники процесса высыпали в коридор.
В совещательной комнате, поразмыслив, судья одумалась и минут через пятнадцать возобновила судебные слушания. В ходатайстве о воз- буждении уголовного дела мне было отказано по причине преждевременности его заявления, но цель была достигнута: свидетелей в коридоре к моменту, когда секретарь пригласила участников процесса в кабинет, уже не было.
Иск Кати Платоновой был удовлетворен.
Коллеги, которые не жаловали адвокатов – бывших ментов, были приятно удивлены, и после этого процесса я почувствовал, что отношение ко мне изменилось к лучшему.
Дело Кати Платоновой «аукнулось» мне через два года, но это была уже другая история. Президиум Коллегии адвокатов по поручению обкома КПСС рассматривал вопрос о моем повторном исключении из Коллегии. В постановлении было записано, что я ухудшил положение доверительницы – Екатерины Платоновой, которая была оштрафована на 10 рублей за нарушение погранично-паспортного режима.