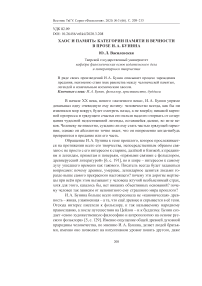Хаос и память: категории памяти и вечности в прозе И.А. Бунина
Автор: Василевская Юлия Леонидовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В ряде своих произведений И.А. Бунин описывает процесс зарождения предания, неизменно ставя знак равенства между человеческой памятью, легендой и изначальным космическим хаосом.
И.а. бунин, фольклор, христианство, буддизм
Короткий адрес: https://sciup.org/146281711
IDR: 146281711 | УДК: 82.09 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.208
Текст научной статьи Хаос и память: категории памяти и вечности в прозе И.А. Бунина
В начале XX века, нового «железного века», И. А. Бунин упрямо доказывал одну очевидную ему истину: человечество всегда, как бы ни изменялся мир вокруг, будет смотреть назад, а не вперёд; никакой картиной прогресса и грядущего счастья его нельзя надолго оторвать от созерцания чудесной недостижимой легенды, оставшейся далеко, во мгле веков. Человеку не известно, суждено ли ему стать частью грядущей гармонии, однако он абсолютно точно знает, что он непременно когда-нибудь превратится в предание или его часть.
Обращение И. А. Бунина к теме прошлого, которое прослеживается на протяжении всего его творчества, непосредственным образом связано с не просто с его интересом к старине, далёкой и близкой, к преданиям и легендам, приметам и поверьям, «прямыми связями с фольклором, древнерусской литературой» [6, с. 191], но и шире – интересом к самому духу ушедшего времени как такового. Писатель всегда будет задаваться вопросами: почему древнее, умершее, легендарное ценится людьми гораздо выше самого прекрасного настоящего? почему эти дорогие мертвецы при всём при этом вызывают у человека жгучий необъяснимый страх, хотя для этого, казалось бы, нет никаких объективных оснований? почему человек так зависим от непонятного ему страшного мира прошлого?
И. А. Бунина больше всего интересовала не «каноническая» древность – явная, узаконенная – а та, что ещё древнее и скрывается в её тени. Отсюда интерес писателя к фольклору, к так называемому народному православию, а после путешествия на Цейлон – и к буддизму. Бунин создает «свою художественную философию и антропологию на основе русского фольклора» [5, с. 129]. Именно ощущение общей древней духовной прародины человечества, по мнению И. А. Бунина, делает людей братьями, именно оно позволяет на интуитивном уровне понять другого, даже принадлежащего к иной культуре. По сути, об этом первоначале писал ещё Ф. И. Тютчев, лирическому герою которого ночной ветер пел страшные песни «про древний хаос, про родимый». И. А. Бунин во многих рассказах пытается не просто обозначить его в природных явлениях – он показывает этот «древний родимый» страшный Хаос в жизни и представлениях о мире обычных людей.
Присутствие Хаоса явлено у него в народных образах святых, которые в рассказах И. А. Бунина сильно отличаются от их канонической трактовки. Так, например, в повести «Суходол» важную роль играет икона Меркурия Смоленского. При этом святой изображён на иконе так, как он обычно изображался в основном на старинных фресках – с отрубленной головой в руках: «И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы…» [2, с. 121]. История рода Хрущёвых, изложенная в повести, пронизана роковыми стечениями обстоятельств: в ней есть и убийство, и несчастная любовь, и сумасшествие, и что ни человек – то сломанная судьба. И всё это странным образом связано именно с этой страшной иконой, на обороте которой изображено родовое древо рода Хрущёвых.
В основе рассказа «Баллада» лежит ещё один похожий образ – образ «божьего зверя, Господня волка», о котором рассказывает странница Машенька. Этот неизвестно откуда явившийся зверь, наделённый амбивалентными признаками, указывающими на его одновременно дьявольскую и божественную природу («с глазами, как огонь, красными и с сиянием округ головы»), убивает старого князя, посягнувшего на невесту своего сына. Перед смертью князь завещает изобразить того волка в церкви над своей могилой: «…во весь рост и склад написанный: сидит в серой шубе на густом хвосту и весь тянется вверх, упирается передними лапами в земь – так и зарит в глаза: ожерелок седой, остистый, толстый, голова большая, остроухая, клыками оскаленная, глаза ярые, округ же головы золотое сияние, как у святых и угодников» [3, с. 262]. Странница не только верит в эту историю, но и поминает этого волка в своей молитве, обращаясь к нему так, как если бы это действительно был святой («божий зверь, Господень волк, моли за нас царицу небесную»).
Под балладой (именно так она называет свой рассказ) Машенька понимает, по сути, предание: «Да ведь это дело тёмное, давнее, сударь, – может, баллада одна. <…> Баллада, сударь. Так-то все наши господа говорили, любили эти баллады читать» [Там же, с. 263]. Она по наивности контаминирует из названий рек Тигр и Евфрат имя ещё одного божьего зверя – «Тигра-Ефрата». Эти два факта должны снизить общую патетичность истории – от сказания старины до рассказа неграмотной странницы, по верхам нахватавшейся учёных слов от своих бывших господ. Однако именно Машенька даёт типично бунинскую оценку страшной старине, которая глядела на нее с фрески глазами святого волка:
«– До чего хорошо, господи!
– Чем хорошо, Машенька?
– Тем и хорошо, что не знаешь чем. Жутко.
– В старину, Машенька, всё жутко было.
– Как сказать, сударь? Может, и правда, что жутко, да теперь-то всё мило кажется. Ведь когда это было? Уж так-то давно, – все царства-государства прошли, все дубы от древности рассыпались, все могилки сровнялись с землёй» [Там же, с. 263–264].
Отметим, что схожую оценку даёт суходольской жизни её добровольная «узница», бывшая крепостная Наталья – жутко и хорошо.
Доверяя повествование наивному человеку, И. А. Бунин не только уводит в тень вопрос о каноничности или неканоничности предания, его «истинности» или «ложности» – тем самым он, как правило, выводит на первый план подлинную суть самого понятия «древность». Его наивный рассказчик всегда делает акцент на том, что герои его повествования живые люди, а не идеалы, обезличенные и унифицированные представлениями о должном и недолжном. Эти герои живы для рассказчика и этим самым делают незначимой любую временную дистанцию. Это также позволяет говорить о чудесных или необычных обстоятельствах, в которых они действуют, как о подлинно переживаемых. В этом плане очень показателен рассказ бывшего крепостного Арсеньича («Святые»), человека грамотного, который очень любил слушать народные сказания и «сличать из книг». Он рассказывает детям два «жития» в своей собственной редакции – святой Елены и мученика Вонифатия. Обе истории являются причудливой смесью из мотивов светской художественной литературы (заимствованных по большей части из жестокого романса) и житийных сюжетных «заготовок».
Житие мученика Вонифатия пересказано Арсеньичем наиболее близко к канонической его версии, однако искренние слёзы старика вызывает вовсе не то, что этот богатый человек, привыкший к широкой, распутной жизни решил принять христианство и пострадать за веру, а кураж, с которым этот герой идёт навстречу опасности. По сути, Вони-фатий в его исполнении превращается в удалого доброго молодца из русского фольклора, красавца и силача, которому сам чёрт не брат и который все свои подвиги делает от избытка бушующей в нём силы. Отсюда в рассказе Арсеньича и многие риторические формы, характерные именно для фольклора – «беспутная головушка», «чужеземный гость», «шамаханские шелка». Грешную жизнь героя до поездки в город Тарс Арсеньич объясняет опять-таки его доброй широкой натурой. Таким образом, Во-нифатий представлен как герой с отчётливо «хаотическим», беспутным, неправильным в представлении людей поведением. Именно поэтому, по глубокому убеждению Арсеньича, он становится героем жития.
И. А. Бунина очень занимал «механизм» создания народного предания. Одно из его произведений на эту тему – рассказ о юродивом «Иоанн Рыдалец». Странность, «иномирность» юродивого нагнетается за счёт постоянно повторяемой им фразы «буду вопить, как штраусы». Сравнение это восходит к словам пророка Михея: «Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнажённый, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение её, дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима» (Мих 1: 8–9). При этом история, изложенная в первоисточнике, не имеет к Иоанну Рыдальцу никакого отношения. Этот рефрен появляется в речи героя как результат необычного происшествия (именно оно превратило Ивана в Иоанна) – неудавшееся похищение его нечистой силой, описанное с характерными для фольклорных быличек фантастическими особенностями: «…пришёл, говорит, от обедни, вижу, сына нету, а видать чей-то пеший след пробит за гумном, за овины; пошёл я, говорит, по этому следу: вижу, лапти новые, а след от одной ноги до другой – более трёх сажен…» [2, с. 381]. Как сразу же указано в рассказе, «село Грешное этим и кончает житие святого». И если бы не вмешательство князя, Иван остался бы в народной памяти как обычный безумец, кричащий бессмыслицу и кидающийся на людей.
Старый князь, антагонист Иоанна, также казался мужикам «чудным» и странным (приказал священнику служить панихиду по старому году, а впоследствии похоронить себя рядом со свои «холопом», то есть Иоанном). Именно его своеобразное вмешательство в судьбу Ивана сделало из последнего Иоанна Рыдальца – юродивого, святого и пророка. И. А. Бунин определённо указывает на то, что для создания любой легенды или предания всегда нужны двое – гонимый и гонитель, герой и антагонист: «В старом селе Грешное скоро забывают прошлое, быль скоро претворяют в легенду. Иоанна Рыдальца запомнили надолго только потому, что на самого князя восставал он, а князь всех поразил своим предсмертным приказанием. <…> И стал Иван Рябинин Иоанном Рыдальцем, и видится он селу Грешному, точно в церкви написанный – по-лунагой и дикий, как святой, как пророк» [Там же, с. 382].
Таким образом, легенду создают не великие деяния человека, а необычные обстоятельства, антагонисты, слова, которые оказываются связаны с его образом, т.е. то, на что герой не может никак повлиять или к чему он по большому счёту имеет косвенное отношение. Показательно, что история преображения Ивана в Иоанна движется только приказами князя, а не самого героя. Это также очень заметно в описании похищения Ивана нечистой силой: «велел тебе отец в церковь ехать», «нечего делать, достал Ваня деньги», «глядь, сидит он в степи, в поле, на снегу <…>, а сам плачет-рыдает». Заметно постоянное подчёркивание подневольных действий Ивана. Даже плач словно бы не принадлежит ему.
Вдвойне интересно, что это подневольное положение героя начинается с того, что он в первый раз проявляет непослушание: когда все отправляются к обедне, он остаётся дома. При этом непослушание ничем не мотивировано («не пожелал»). Дальнейшее видится как наказание за этот грех, после чего должно последовать покаяние и возвращение к «благому житию». Однако, превратившись в юродивого, Иоанн не обличает греховный образ жизни окружающих, не проповедует христианское учение, не подаёт пример апостольского жития – он набрасывается на людей со странным приказом «дай мне удовольствие!» То, что он делает и говорит, не укладывается ни в какие поведенческие каноны, и крестьяне часто бьют Иоанна именно за эту «непонятную просьбу». Старый князь, напротив, показан как лицо действующее, которое отвечает на непонятное требование юродивого действием понятным, даже будничным – приказывает «для удовольствия» пороть его на конюшне.
Из непонятности, алогичности и складывается, по убеждению И. А. Бунина, легенда. Поэтому знатная дама молится и «сладко плачет» перед могилой Иоанна (упоминание шакала и страуса внушают ей «трепет и тоску»), а не князя.
При всём своём интересе к теме мифотворчества писатель склонен был разделять мифотворчество «стихийное», народное и мифотворчество интеллектуальное, книжное. Показателен в этом плане рассказ «Птицы небесные». Случайный разговор у моста студента Воронова с нищим Лукой оборачивается коротким философским диспутом о смысле жизни. Студент никак не мог понять по ответам своего собеседника, что перед ним за человек: выглядит как странник по святым местам или самый обычный нищий, но к поданной милостыне отнёсся спокойно, без радости, о рае отзывался опять-таки странно безразлично («это ещё дело тёмное – не то есть он, рай-то, не то нет»), как, впрочем, и о своей смерти. Воронов терялся в догадках, кто этот странный человек – философ? атеист? Уже после расставания он даёт ему довольно хлёсткую, очень эмоциональную характеристику – «дикарь». Эта эмоциональность никак, казалось бы, не объясняется спокойным разговором с Лукой и мирным с ним расставанием, но, однако же, подготавливается целым рядом сюжетных деталей.
Во-первых, Воронов давно уже ждёт мать из дальней поездки, а погода к ночи испортилась, поднималась метель. И мать, и нищий, отправившийся в дальний путь до Знаменского, оказались где-то там, в неопределённости, между жизнью и смертью. Во-вторых, автор несколько раз в финале рассказа описывает прекрасную панораму блистающего звёзд- ного неба – символ, неизменно в прозе И. А. Бунина соотносящийся с образом вечности. Созвездия, движущиеся по своим неизменным путям, и метель составляют чёткий контраст двух миров: «Всё спит мёртвым сном, нигде ни огонька, сад ревёт властно и дико. Небо ещё чище, чернее, звёзды ещё пламеннее. А над белым морем метели – два других, ещё шире раскинутых, кровавых глаза – Арктур и Марс» [1, с. 303]. Внизу – белый дикий хаос, вверху – тёмный, не менее жуткий, непостижимый для человека космический порядок. Вся эта картина космического, хаотического, непонятного человеку движения и Юнг, книгу которого читает вечером студент, – это ещё одна контрастная пара. Сочинения Юнга здесь выступают как символ интеллектуального представления о тёмных первоначалах мира и человека. Лука же верует «стихийно»: в его представлениях о мире студент не находит никакой системы. Луку не заботит иной мир, посмертие, ад и рай; он верит в бога, хотя и не уточняет в какого. Он удивляет студента тем, что искренне доволен своей участью (хотя очень болен и беден) и не хочет ничего менять. Образ Луки близок скорее буддистским представлениям, чем христианским (отсутствие желаний чего-либо, отношение ко всему, что может манить – даже раю – как к иллюзии). Он, как полагает студент, – дикарь, потому что не озабочен проблемой смерти, хотя в момент их расставания наиболее близок к ней. Гибель Луки показана таким образом, что он словно сливается с прекрасным небом и бушующим снежным морем. Он теряет все индивидуальные черты и остаётся неким максимально простым объектом – безымянным мёртвым телом на знаменской дороге.
Перед нами, очевидно, та же система персонажей, что была в «Иоанне Рыдальце». Есть «дикий» герой (юродивый, нищий) и есть его антагонист (князь, студент) – чужак, вторгшийся в его мир. В первом случае между ними случается конфликт, который приводит к своеобразному симбиотическому существованию в народной памяти. Во втором – конфликт не случился, но и понимания также не произошло. И это связано не с тем, что студент – представитель книжной, дворянской культуры, а Лука – народной. Студент лишён «дикости», спонтанности и алогичности, которой отмечены многие поступки старого князя. Он может только наблюдать за диким буйством природы как посторонний наблюдатель. Архетипы Юнга, о которых читает Воронов, говорят о неких первоначалах, общих для всех людей и культур, но не позволяют их ощутить как реальность. Именно поэтому разговор с Лукой «о главном», по сути, не состоялся.
Мир легенд и преданий (например, «мифопоэтического сюжета об охотнике, метившемся в мироздание» [5, с. 138]), показанный в творчестве И. А. Бунина как естественное продолжение природного универсума [4; 5; 7], оказывается наделён всеми чертами последнего: вечный, с иными, отличными от земных порядком и логикой, не привязанный к индивидуальному, вне этических категорий, старее всех религий, источник красоты и гарант бессмертия всякого человека. Таким образом, древность для И. А. Бунина – это не окаменевшая, застывшая «история в рассказах», а скорее иная форма жизни, представленная не в исторических аллюзиях, а «сгущенная до плотности символа и мифа» [6, с. 195]), Именно её инаковость и делает эту «жизнь» страшной для живых (ср. рассказ «Легенда»), но и она же делает её шире реальности, богаче и значительнее её (ср. упоминание никогда не существовавшей русской царицы Василисы в рассказе «Поруганный Спас»). Неизбежность трансформации в легенду любого явления, любой человеческой судьбы делает даже самую незначительную жизнь значимой. Эти представления лежат в основе фундаментального бунинского убеждения в том, что смерть есть иллюзия, а умерший становится частью лёгкого дыхания мира.
Tver State University
Список литературы Хаос и память: категории памяти и вечности в прозе И.А. Бунина
- Бунин И.А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1987. 511 с.
- Бунин И.А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. М.: Худож. лит., 1987. 671 с.
- Бунин И.А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. М.: Худож. лит., 1988. 639 с.
- Николаева С.Ю. И.А.Бунин и Ю.П.Кузнецов (творческий диалог) // Юрий Кузнецов и мировая литература. К 70-летию со дня рождения поэта: сб. материалов V ежегодной международной конференции. М.: Союз писателей России, 2012. С. 108-122.
- Николаева С.Ю. Фольклорные мотивы в поэзии И.А. Бунина, Ю.П. Кузнецова, Н. И. Тряпкина // Традиционная культура Тверского края: сб. науч. статей и публикаций / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2013. С. 129-139.
- Николаева С.Ю. А.П. Чехов и "степное царство" русской литературы: монография / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2019. 257 с.
- Николаева С.Ю. Чеховское начало в рассказе И.А. Бунина "Мелитон" // Творчество В.Я. Шишкова в контексте русской прозы XX века: межвуз. сб. науч. тр. / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2003. С. 174-187.