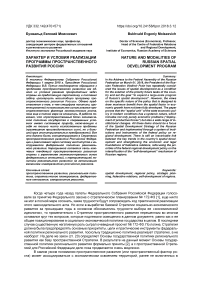Характер и условия реализации программы пространственного развития России
Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно обращался к проблемам пространственного развития как одного из условий решения приоритетных задач страны на предстоящую перспективу и поставил задачу «развернуть масштабную программу пространственного развития России». Однако представления о том, в чем специфика политики, ориентированной на максимальное использование пространственного фактора экономического роста, пока еще в полной мере не сложились. В работе показано, что «пространственный блок» экономической политики государства в современных условиях имеет системную природу, включающую в себя не только чисто хозяйственные проблемы («размещение производительных сил»), но и большой круг институциональных преобразований. Все это должно быть сконцентрировано в Стратегии пространственного развития Российской Федерации и реализовано через систему институтов и инструментов федеральной политики регионального развития. Неразрывной остается связь ключевых тенденций пространственного развития страны с укреплением экономико-правовых основ федеративных отношений, с переориентацией политики регионального развития на активизацию механизма «саморазвития» российских регионов.
Пространственное развитие, региональная политика, стратегическое планирование, федеративные отношения, саморазвитие регионов
Короткий адрес: https://sciup.org/14939069
IDR: 14939069 | УДК: 332.142(470+571) | DOI: 10.24158/tipor.2018.3.12
Текст научной статьи Характер и условия реализации программы пространственного развития России
Когда четыре года назад палаты Федерального Собрания Российской Федерации голосовали за принятие Федерального закона о стратегическом планировании № 172-ФЗ [1], еще никто не мог в полной мере осознать, какие трудности будут сопровождать ход практической реализации этого законодательного акта. Но если в выработке базовой Стратегии социально-экономического развития за прошедшие годы в основном обозначились трудности выбора ее «экономической идеологии», то применительно к Стратегии пространственного развития нерешенным во многом оставался круг тех вопросов, которые подлежали освещению в данном документе, равно как и ее общее позиционирование в социально-экономической политике государства в целом. В последнем случае существенную негативную роль сыграл очевидный просчет № 172-ФЗ. По логике, Стратегия должна была предопределять основные приоритеты, цели и практические инструменты федеральной политики регионального развития, поскольку традиционно политика реализует стратегию, а не наоборот. На деле же закон (ст. 20) определяет Основы государственной политики регионального развития как базу пространственной Стратегии. В результате на данный момент Основы государственной политики регионального развития формально приняты [2], а с пространственной Стратегией для Российской Федерации дело пока продвигается очень медленно.
В самом узком понимании пространственное развитие (или пространственный фактор роста) может ассоциироваться с экономическим освоением территорий, ранее не включенных в хозяйственный оборот, в том числе с задействованием наличествующих в них природных богатств. Для Российской Федерации эта трактовка пространственного фактора хозяйственного и социального развития очень важна, так как и сейчас Россия относится к числу немногих стран современного мира, которые обладают экономически практически не освоенными территориями и «резервными» природными богатствами.
Однако это не значит, что пространственный фактор роста и его стратегирование относятся только к неосвоенным территориям. Специфический круг проблем и задач пространственного регулирования в не меньшей мере касается всех регионов страны. Например, даже те регионы, которые уже не одно столетие интегрированы в единый хозяйственный оборот России (единое экономическое пространство), все еще характеризуются существенными разрывами в уровне социально-экономического развития. Аналогичные экономические разрывы характерны для территорий внутри отдельных регионов страны. Центростремительные демографические потоки ведут к перемещению населения страны с востока на запад, с севера на юг, из малых и средних городов в областные центры и мегаполисы и пр. Остановить эти процессы, повернуть их вспять сегодня во многом тождественно понятию активизации пространственного фактора социально-экономического развития страны и, кроме того, соответствует требованиям экономической безопасности Российской Федерации.
Можно сказать, что все эти основные слагаемые пространственного фактора социальноэкономического развития страны уже получили освещение в научной литературе [3]. Однако в современных условиях пространственный фактор экономического роста страны наполняется новым содержанием. В частности, в статье остановимся на субъективной стороне политики пространственного развития. Это связано с тем, что существующие трактовки этой политики характеризуются чрезвычайной централизованностью; по сути, такая политика часто представляется уже как исключительное «обременение» федерального центра, тогда как субфедеральный уровень управления во многом остается на позиции «пассивного наблюдателя». Как отмечал А.Н. Швецов, «в комплексе факторов территориального развития решающую роль устойчиво сохраняют меры государственного содействия, которые даже не только и не столько дополняют, сколько во многих случаях замещают усилия по созданию и использованию предпосылок и условий саморазвития территорий» [4, с. 40]. В связи с этим представления о том, что должна отразить Стратегия пространственного развития (это закреплено в постановлении Правительства РФ [5]), необходимо дополнить блоком мероприятий, направленных на активизацию механизмов «саморазвития» российских регионов.
Баланс централизованных инструментов государственной региональной политики и мер, ориентированных на активизацию механизмов «саморазвития» регионов, выступает одним из важнейших признаков федеративной государственности. Как показывает зарубежный опыт, эта проблема важна не только для федеративных государств, но и для стран, чье государственное устройство несет в себе определенные начала федерализации, например для Испании. Как отмечали местные эксперты, «региональные проблемы, что логично, всегда имели экономический “профиль”, который был отмечен экономическими дифференциациями среди регионов и попытками скорректировать их» [6].
Соответственно, всякое «перетягивание одеяла» полномочий и ресурсов, связанных с развитием регионов, на федеральные органы управления последовательно превращает таковые в центр административно-унитарного характера, а неудачи в решении задач экономического выравнивания регионов неизбежно ведут к росту недоверия к федеральному центру, к расшатыванию целостности государства. И напротив: формализация федеративной природы государства не может быть «платой» за реальное продвижение в деле экономического выравнивания регионов и решения задач пространственного регулирования в целом. Экономико-правовой механизм федеративных отношений и его важнейшие институты должны не подавлять, а, напротив, формировать условия и стимулы «саморазвития» российских регионов.
В имеющихся исследованиях саморазвитие регионов чаще всего ассоциируется с достижением бюджетной самодостаточности посредством эффективного использования природного, производственного, экономического (в том числе налогового) потенциала территории, развития локального рынка во имя удовлетворения потребностей региона, и прежде всего его населения. Это понимание саморазвития регионов, не теряющее своей актуальности и сегодня, все же требует более широкой трактовки. Нельзя сводить саморазвитие только к самообеспечению. Речь идет об интеграции в понятие «саморазвитие регионов» способности субъектов Федерации действовать в качестве активных «акторов» стратегического планирования и политики модернизации экономики, реализации общегосударственных приоритетов отраслевого и пространственного характера, в том числе в контексте достижения реального прогресса в деле преодоления межрегиональной экономической дифференциации. Зарубежные исследователи уже давно констатируют нарастающую зависимость экономического развития регионов от расширения их научно-образовательного потенциала [7].
Механизмы саморазвития субъектов Федерации базируются на трех главных составляющих: полномочия, ресурсы и стимулы, последовательное формирование которых должно найти отражение в Стратегии пространственного развития. Прежде всего, такая Стратегия должна неким образом финализировать длительный процесс перераспределения полномочий федерального центра и регионов, сбалансировать тренды централизации и децентрализации управления, определяющей роли Федерации как субъекта региональной политики и регионов как ее не менее заинтересованных и ответственных «акторов». Разумеется, речь идет не о полной инвентаризации таких полномочий, а только о том их круге, который связан с налогово-бюджетной политикой субъектов Федерации, с созданием и финансированием региональных институтов развития, с осуществлением функций территориального планирования и организации внутрирегиональной системы государственного и муниципального управления. При этом основным принципом расширения полномочий должно стать адекватное усиление ответственности субъектов управления, а также обеспечение способности регионов формировать экономические ресурсы, достаточные для реализации указанных полномочий и решения стратегических задач социальноэкономического развития регионов.
Последние годы характеризовались очевидным кризисом системы региональных финансов, который проявился в нарастании субфедерального государственного долга и снижении доли инвестиций в расходной части бюджетов субъектов Федерации. Те меры, которые предпринимает Минфин России по стимулированию регионов к эффективной бюджетной политике, расширению и полному использованию налогового потенциала (разного рода премиальные дотации и гранты), явно недостаточны. Как отмечали Б.Л. Лавровский и Е.А. Горюшкина, смысл таких новаций – «дополнить (но не заменить) перераспределительные процессы рядом вспомогательных инструментов, мотивирующих власти к росту экономического и налогового потенциала… хотя, надо заметить, палитра такого рода стимулирующих инструментов очень скудна» [8].
Стимулы к расширению располагаемых экономических ресурсов для субъектов Федерации должны лежать в самой системе межбюджетного налогового распределения, а не сверх ее. Кроме того, функцию стимулирования саморазвития может сыграть переориентация всех инструментов региональной политики (межбюджетные отношения, государственные программы, те или иные институты развития) на конкретные типы регионов. Только это позволит сформировать «масштабную программу пространственного развития», в том числе те экономические механизмы региональной политики, в рамках которых высокоразвитые самодостаточные регионы не будут жаловаться на «откачку» ресурсов их роста, а менее развитые дотационные регионы получат реальные рычаги для преодоления тенденций иждивенчества.
Ссылки:
Список литературы Характер и условия реализации программы пространственного развития России
- О стратегическом планировании в Российской Федерации : федер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г. : Указ Президента РФ от 16 янв. 2017 г. № 13. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Бухвальд Е.М. Эволюция основ региональной политики в Российской Федерации//Федерализм. 2017. № 1 (85). С. 7-20.
- Демьяненко А.Н. Еще раз о реализованной академической программе фундаментальных исследований пространственного развития России//Российский экономический журнал. 2016. № 2. С. 66-87.
- Лаврова Е.Л. Современные подходы к развитию экономики региона: территориальная система саморазвития//Интеллектуальные ресурсы -региональному развитию. 2017. № 1-1. С. 61-66.
- Сухарев О.С. Элементы теории саморазвития региональной экономики: структура и управление//Вестник АКСОР. 2017. № 1 (41). С. 67-79.
- Фаттахов Р.В., Строев П.В. Пространственное развитие России: вызовы современности и формирование точек экономического роста//В поисках утраченного роста. М., 2016. С. 181-204.
- Швецов А.Н. «Точки роста» или «черные дыры»?//Российский экономический журнал. 2016. № 3. С. 40-61.
- О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации : постановление Правительства РФ от 20 авг. 2015 г. № 870. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
- Regional Policy, Economic Growth and Convergence/ed. by J.R. Cuadrado-Roura. Berlin; Heidelberg, 2009. P. 17. https://doi.org/10.1007/978-3-642-02178-7.
- New Directions in Regional Economic Development/eds.: C. Karlsson, A.E. Andersson, P.C. Cheshire, R. Stough. Berlin, 2009. P. 267-290. https://doi.org/10.1007/978-3-642-01017-0.
- Лавровский Б.Л., Горюшкина Е.А. Особенности государственного управления пространственным развитием России//Вестник Российской академии наук. 2017. Т. 87, № 8. С. 725-733.