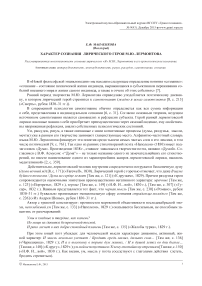Характер сознания лирического героя М.Ю. Лермонтова
Автор: Манаенкова Елена Федоровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 9 (43), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются многоплановость сознания лирического «я» М.Ю. Лермонтова и его хронологическое изменение.
Интерсубъектность, моносубъектность, разум, рассудок, самопознание, сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/14822419
IDR: 14822419
Текст научной статьи Характер сознания лирического героя М.Ю. Лермонтова
В современной психологии самопознание обычно определяется как вся сумма информации о себе, представленная в индивидуальном сознании [6, с. 31]. Согласно основным теориям, ведущим источником самопознания является самоанализ и рефлексия субъекта. Герой ранней лермонтовской лирики основные знания о себе приобретает преимущественно через самонаблюдение, ему свойственны напряженная рефлексия, анализ собственных психологических состояний.
Ум, рассудок, разум, а также связанные с ними когнитивные процессы (думы, раздумья, мысли, мечты) уже в раннем его творчестве занимают главенствующее место. Алфавитно-частотный словарь языка М.Ю. Лермонтова фиксирует эти понятия среди тысячи самых частых слов в его лексике, в том числе поэтической [9, с. 763]. Так одно из ранних стихотворений поэта «Наполеон» (1830) имеет подзаголовок «Дума». Произведение 1838 г., ставшее знаковым в творчестве поэта, названо «Думой». Согласимся с В.Ф. Асмусом: «“Дума”» – не только название одного из замечательнейших его стихотворений, но вместе наименование одного из характернейших жанров лермонтовской лирики, насквозь медитативной» [2, с. 359].
Действительно, лермонтовский человек внутренне сосредоточен и погружен в бесконечную думу ( думы вечный яд ) [8, с. 171] («Farewell», 1830). Лирический герой с горечью отмечает, что даже В шуме буйного похмелья / Дума на сердце лежит [Там же, с. 121] («К друзьям», 1829). Причем раздумья героя сопровождаются оценочными эпитетами преимущественно негативного характера: мрачные [Там же, с. 123] («Портреты», 1829 г.), черные [Там же, с. 149] («Н.Ф. И…вой», 1830 г.), [Там же, с. 307] («Гусар», 1832 г.). Важным представляется тот факт, что черная мысль [Там же, с. 230] («Романс», рубеж 1830–31 гг.) буквально пронизывает эмоциональную сферу сознания страдальца молодого [Там же, с. 226] («Из Андрея Шенье», рубеж 1830–31 гг.).
Автор с тревогой констатирует: противостоя мертвенной объективности последекабрьской эпохи, неколебимый ум [Там же, с. 133] («Наполеон», 1829 г.) оказывается бессильным, не способным защитить от разочарований:
Умы и хладные и твердые, как камень?
Но мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойный пламень [Там же, с. 135] («Жалобы турка», 1829 г.).
При этом юный поэт убежден: для человеческой мысли характерен динамизм, активный, живой характер: И мысль невольно улетает / Бродить средь милых, дальних скал… [Там же, с. 136] («Черкешенка», 1829 г.); И я к высокому в порыве дум живых, / И я душой летел во дни былые… [Там же, с.140] («К другу», 1829 г.); ум мой не по пустякам / К чему-то тайному стремился [Там же, с. 150] («Н.Ф. И…вой», 1830 г.). Как видим, ум, мысль у поэта соседствуют с глаголами действия (лететь, бродить стремиться).
Мысль способна управлять, приводить в движение лермонтовского героя, будоражить его внутреннее «Я»: Гоним повсюду мыслию одной [Там же, с. 177] (К***, 1830 г.); Мгновенно пробежав умом / Всю цепь того, что прежде было, - / Я не жалею о былом… [Там же, с. 274] («Стансы», 1831 г.).
Для М.Ю. Лермонтова мысль, теория имеют ценность лишь постольку, поскольку способны претворяться в реальное дело.
К чему глубокие познанья, жажда славы…
Когда мы их употребить не можем? [8, с. 141] («Монолог», 1829 г.).
По меткому замечанию Н.К. Михайловского, для поэта «мысль должна быть «плодовита», т.е. иметь осязательный результат, быть действенной мыслью» [11, с. 287]. В противном случае – пытки бесполезных дум [Там же, с. 209] («Смерть», рубеж 1830–31 гг.).
Подобный взаимопереход в процессе человеческого познания можно наблюдать в программном для раннего М.Ю. Лермонтова стихотворении «1831-го июня 11 дня». В этом многожанровом и многотемном произведении отражена попытка автора непосредственно воспроизвести процесс самопознания, рождения философской мысли. Механизм мыслительного процесса в стихотворении осуществляется следующим образом: мысль лирического героя начинается детскими впечатлениями (чувственный и рациональный уровень отражения действительности), проходит проверку ума (следующая ступень рационального познания) и завершается возвращением к обогащенным мечтам (своеобразный синтез рассудочного и разумного).
Показывая противоречивый характер познавательной деятельности человека, юный поэт замечает также неотделимость рационального и эмоционального уровней сознания в сложнейшем интеллектуальном процессе. В приведенном стихотворении это подчеркивается активным использованием ког-нитивно-эмотивной лексики: из 32 строф в 10 встречаются слова, связанные с рациональной стороной человеческого сознания, и в 6 – с эмоциональными переживаниями, сопровождающими боренье дум .
В зрелом творчестве Лермонтов-лирик все больше обнаруживает раздвоение субъективного сознания, отчетливее поляризует его. В стихотворении 1840 г. «И скучно и грустно» поэт одновременно и переживает и выражает свои чувства. Тот же прием использован и в одном из последних лермонтовских лирических шедевров – «Выхожу один я на дорогу». Внутренний монолог обращен к самому себе и становится своеобразным диалогом. Важной видится характерная для монологической речи недоговоренность, разрыв последовательного хода мыслей, что отражает внутреннюю активность души и внешнюю бездеятельность субъекта, порожденных конфликтностью с внешним миром.
Для сознания зрелого М.Ю. Лермонтова чрезвычайно характерны философско-социальные раздумья . Познание поэта теперь направлено не столько на мир в себе, что соответствовало романтическому восприятию жизни, сколько на мир, выходящий за пределы лирического «я» и обусловливающий его переживания. Сознание «лермонтовского человека» устремлено к объективности. Так, в упомянутой «Думе», осуждая безвольных, апатичных современников, поэт поднимается над их сознанием. Лирическое «я» как бы находится в двух сферах. Обличение исходит от лица, глядящего на «поколенье» и с высоты личного сознанья ( я гляжу [8, с. 56]), и изнутри ( на наше [Там же]).
Как известно, М.М. Бахтин предложил рассматривать в лирических жанрах довольно сложную систему отношений между автором и лирическим героем [3, с. 148–149]. Современные исследователи говорят о возможности различения в лирике моносубъектности, т.е. авторского сознания, и интерсубъектности, т.е. сознания «голосов», не прямо относящихся к автору [15].
И.Б. Роднянской верно было замечено, что в поздней лирике Лермонтова появляется голос, звучащий за чертой пережитого, вне перипетий собственно авторской судьбы, да и само единство лирического героя фактически расчленяется [12, с. 262].
Е.Г. Эткинд, анализируя зрелую поэзию М.Ю. Лермонтова, пришел к мысли о психологической, эстетической и формальной многослойности, лежащей в основе его лирики [19]. На примере стихотворения «Не верь себе» (1839 г.) ученый убедительно показал слитность семи персонажей-призраков и не только по причине общей объединяющей их идеи – отрицание поэзии, но то, что «они в совокупности принадлежат одному и тому же носителю, они – разные аспекты поэта Лермонтова» [Там же, с. 920]. Фактически на примере этого стихотворения мы наблюдаем своеобразную полифоничность художественного мышления поэта.
Ярким примером многослойного, противоречивого сознания лирического героя Лермонтова может служить знаменитое стихотворение 1841 года «Сон». Герой баллады видит сон о своей смерти и в нем – сон любимой им женщины об этой смерти. В.С. Соловьев дал ставшую классической интерпретацию этого стихотворения: «Лермонтов видел <…> не только сон своего сна, но и тот сон, который снился сну его сна, – сновидение в кубе» [14, с. 339]. Исследуя жанровое и композиционное своеобразие стихотворения, Б.М. Эйхенбаум назвал его построение «зеркальным»: «Сон героя и сон героини – это как бы два зеркала, взаимно отражающие действительные судьбы каждого из них и возвращающие друг другу свои отражения» [18, с. 34].
Е.А. Бурцева проанализировала ролевые субъекты лермонтовской лирики 1837–1841 гг., выделяя переживания, принадлежащие как самому поэту, так и иным, не похожим на него лицам [5]. В самом деле, в лермонтовской лирике зрелого периода, наряду с авторским сознанием, живет сознание других, преимущественно простых людей («Бородино» (1837), «Сосед» (1837), «Соседка» (1840), «Завещание» (1840), «Валерик» (1840) и др.).
Справедливо считается, что «Лермонтов создал в «Бородине» не только яркий образ рядового участника великой битвы, глазами которого она увидена, но и обобщенный образ народа в один из значительнейших моментов его исторического бытия. Недаром Л. Толстой назвал «Бородино» зерном своей эпопеи «Война и мир» с ее «мыслью народной» » [16, с. 135]. В личности героя стихотворения отчетливо различимы принципы народного характера: цельность мыслей и чувств, искренность, непосредственность, активность, естественный патриотизм.
Важно подчеркнуть, насколько глубоко вживается поэт в народное сознание. Размышляя над «Казачьей колыбельной песней» (1838), Белинский писал о М.Ю. Лермонтове: «как же он так глубоко мог проникнуть в тайны женского и материнского чувства?» [4, с. 535–536]. Уместно здесь упомянуть наблюдения современных исследователей об отражении в отечественной литературе чувства материнства [см., напр.: 13].
Не без оснований И.П. Щеблыкин считает «Казачью колыбельную песню» ключевым стихотворением в поэтическом наследии Лермонтова [17]. Исследователь рассуждает: «с виду все необычайно просто: молодая казачка-мать, ее младенец, колыбельная песня, отец младенца… Но через изображение простых людей (субъекты повествования) Лермонтов выявил нечто особенное: представление миллионов людей (объективный смысл повествования!) разных поколений о жизни истинной, основанной на нравственном долге, любви к Богу и отчизне» [Там же, с. 109].
Очевидно, что М.Ю. Лермонтов стремится постичь переживания обычного человека: рядового бойца, матери-казачки, умирающего армейца и т.д. В свое время Д.Е. Максимов писал, что в зрелой лирике поэта «намечалось единство сознания простого человека и высокого интеллектуального героя – носителя критического сознания» [10, с. 176].
Список литературы Характер сознания лирического героя М.Ю. Лермонтова
- Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. М.: Наука, 1988.
- Асмус В.Ф. Круг идей Лермонтова//Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М.: Искусство, 1968. С. 359-412.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества/сост С.Г. Бочаров, примеч. С.С. Аверинцев и С.Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979.
- Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. IV. М.: АН СССР, 1954.
- Бурцева Е.А. Субъективный пафос в лирике М.Ю. Лермонтова 1837-1841 гг. (Проблемы поэтики): автореф. дис. …канд. филол. наук. Самара, 2000.
- Знаков В.В., Павлюченко Е.А. Самопознание субъекта//Психологический журнал. Т. 23. №1. 2002 (янв.-февр.). С. 31-41.
- Лекторский В.А. Сознание//Новая философская энциклопедия/Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд/Предс. научно-ред. совета В.С. Степин, зам. предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. 2-е изд., испр. и допол. М.: Мысль, 2010.
- Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4-х т. Т. 1/вступ. статья и комм. Г.П. Макогоненко. М.: Правда, 1986.
- Лермонтовская энциклопедия/гл. ред. В.А. Мануйлов. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.
- Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. 2-е изд. М., Л.: Наука, 1964.
- Михайловский Н.К. Герой безвременья//М.Ю. Лермонтов: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2002. С. 265-294.
- Роднянская И.Б. Лирический герой//Лермонтовская энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. С. 258-262.
- Семикина Ю.Г. Тема материнства в «женской» прозе (на материале произведений Л. Петрушевской, Л. Улицкой, И. Полянской, О. Славниковой, М. Арбатовой//Гуманитарные исследования. Журнал фундаментальных и прикладных исследований. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. № 2. С. 91-97.
- Соловьев В.С. Лермонтов//Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991.
- Солодкова С.В. К вопросу о метафизических началах в мировоззрении А.К.Толстого//Известия ВГПУ. 2012. № 8 (72). С. 126-130.
- Удодов Б.Т. Михаил Юрьевич Лермонтов//История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы: В 2 ч./Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой М.: ВЛАДОС, 2001. Ч. 2. С. 106-163.
- Щеблыкин И.П. Казачья колыбельная песня» как ключевое произведение в системе лермонтовского мировидения//Страницы лермонтоведения: интерпретация, анализы, полемика. Научно-методические статьи. -Пенза: ПГПУ, 2003. С. 107-115.
- Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове. М., Л.: АН СССР, 1961.
- Эткинд Е.Г. Поэтическая личность Лермонтова («Диалектика души» в лирике)//М.Ю. Лермонтов: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2002. С. 900-928.