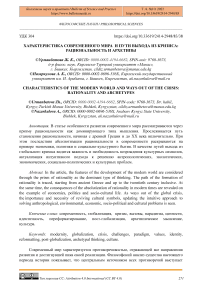Характеристика современного мира и пути выхода из кризиса: рациональность и архетипы
Автор: Урманбетова Жылдыз Карыбаевна, Назаркулова Аселя Кубатовна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 10 т.8, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье особенности развития современного мира рассматриваются через призму рациональности как доминирующего типа мышления. Прослеживается путь становления рациональности, начиная с древней Греции и до ХХ века включительно. При этом последствия абсолютизации рациональности в современности раскрываются на примере экономики, политики и социально-культурного бытия. В качестве путей выхода из глобального кризиса видится важность и необходимость возрождения культурных символов, актуализация интуитивного подхода к решению антропологических, экологических, экономических, социально-политических и культурных проблем.
Современность, глобализация, кризис, вызовы, парадигма, ценности, идентичность, переформатирование, постглобализация, архетипическое мышление, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14126116
IDR: 14126116 | УДК: 304 | DOI: 10.33619/2414-2948/83/38
Текст научной статьи Характеристика современного мира и пути выхода из кризиса: рациональность и архетипы
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 304
Современный мир характеризуется противоречивостью, отражающей все направления развития и достигнувшей пика своей реализации. Философский анализ существа настоящего периода истории показывает, что центральным источником всех противоречий выступает кризис рациональности как типа мышления. Рациональность, заложенная в эпоху древней Греции и достигшая своего пика в ХХ веке, в современности претерпевает глубокий кризис, последствия которого заставляют не только задуматься о перспективах дальнейшего развития мира, но и необходимости восполнения баланса рационального и интуитивного, что позволит сформулировать наиболее функциональные пути выхода из глобального кризиса. Для понимания и осознания этого факта истории имеет смысл проследить специфику развития глобализации, определить вызовы исторического времени, тем самым проникнуть в существо происходящих изменений в мире.
Глобализация как тенденция развития мира
ХХ век был ознаменован многочисленными катаклизмами, войнами и разрушениями. Вместе с этим именно в ХХ веке появилось громкое заявление о вступлении человечества в новую фазу исторического развития, именуемую глобализацией. Тем самым по-новому встал вопрос о глобальном единстве мира, начиная от приоритета рыночной системы хозяйства, победного шествия либеральной демократии и до универсальных ценностей, детерминирующих формирование глобальной культуры, а значит единых стандартов мышления и норм бытия. Вместе с этим основой представления глобализации объективной тенденцией развития бытия стала идеологическая раскрутка философии космополитизма. При этом национальное государство в контексте глобализации должно было уступить место транснациональным корпорациям. Однако по истечении не более чем тридцати лет глобализация перешла в новую фазу своего развития, именуемую пост-глобализацией. И вновь понятие национального государства стало актуальной единицей мирового сообщества, перед которым возникли новые риски и угрозы.
Каждая историческая эпоха предъявляет свои вызовы, о чем говорили многие философы, и в частности, А. Тойнби, когда утверждал, что «история существует там, и только там, где есть время», и в основе истории лежит взаимодействие мирового закона — божественного Логоса и человечества, которое каждый раз дает Ответ на божественное Вопрошание, выраженное в форме природного или какого-либо иного Вызова» [1, с. 8]. Одновременно с этим, каждый новый век в истории человеческой цивилизации определяет ориентиры развития. XXI век был ознаменован продолжением информационной эры, основанной на технологическом детерминизме. Тем самым глобальный мир технологического прогресса предъявляет свои вызовы, стремясь универсализировать все и вся. Одновременно с этим мы живем в эпоху перемен, поскольку обозначенная в конце ХХ столетия в качестве объективной тенденции развития бытия глобализация, по истечении четверти века породила ответную реакцию в виде усиления процессов идентификации, тем самым обосновав деглобализацию. Неслучайно, по мнению классика постмодернизма Жана Бодрийяра, глобализация сама себя и разрушает — это объективный феномен исторического процесса. «Америка уже не та, что прежде, но продолжает развиваться теми же темпами, она в гистерезисе могущества. Гистерезис — это процесс, который продолжается по инерции, эффект, который длится, когда то, что породило его, уже исчезло. Можно также говорить о гистерезисе истории…» [2, с. 193].
Кризис, обусловленный возникновением новой пандемии, которую можно определить, как пограничную ситуацию не только для конкретного человека, но и человечества вообще, являет собой экзистенциальный кризис, поскольку он затрагивает смысл существования человека. Пути выхода должны с неизбежностью предполагать обновленный способ бытия, переоценку ценностей как безусловную необходимость, как ответ на предъявленный человечеству вызов. Необходимо, говоря словами В. Франкла, осознанное принятие определенного отношения к обстоятельствам, которые мы не можем изменить [3, с. 9].
В сложившейся ситуации наиболее значимым вопросом выступает вопрос «почему?»: что стало причиной возникновения столь глобального кризиса, затронувшего все человечество? В поиске ответов на этот вопрос сразу всплывают два варианта — рост технологического прогресса и неправильное отношение к природе. И в действительности, каждое усложнение прогресса с неизбежностью рождает насильственное проникновение в тайны природы. Однако, это все следствия. Основанием же выступает парадигма мышления человека, поскольку все деяния первоначально рождаются в сознании. Это означает, что именно образ мышления формирует все виды деятельности.
Специфика рациональности как типа мышления: истоки и последствия
В настоящее время такой парадигмой выступает рационализм, истоки которого восходят к Древней Греции. Вместе с тем необходимо осознавать, что рациональность как идеал древнегреческой философии была наполнена духовностью, но с течением исторического времени она претерпела существенные изменения. Начиная с эпохи Нового времени, т. е. XVII века, движение человечества продиктовано постоянным и постепенным усложнением прогресса. Это означает, что рациональность как тип мышления завоевала приоритетные позиции человека и его мышления в процессе освоения мира и понимания бытия с точки зрения его завоевания, покорения. Знаменитое декартовское изречение «я мыслю, следовательно, я существую» отражается в антропоцентричном отношении к окружающему миру. Покоряя природу, человек стал проецировать не духовность, а усложняющийся процесс материальных ценностей.
Покоряя мир природы, человек одновременно формировал государственные устройства и общественные институты через призму «жажды своего признания». Именно поэтому Ф. В. Гегель констатировал, что общественное движение и есть борьба за признание [4, с. 241‒242]. Основой этой борьбы был все тот же прогресс, ориентированный на покорение. И вот уже покорение стало не просто принципом существования человека в природе, но и принципом межгосударственного развития. Именно эта жажда признания мотивировала на использование силы как действенного оружия в межличностных, межкультурных, международных, межгосударственных контактах и отношениях. Это означало, что антропоцентрическая позиция человека в мире сопровождалась ужесточением возможности и необходимости признания себя наравне с другими — государства боролись за нахождение своей ниши в мировом пространстве.
Интерпретированная таким образом рациональность время от времени претерпевала кризис. Неслучайно, говоря о кризисе конца XIX века, Э. Гуссерль усматривал его корни в сбившемся с пути рационализме, когда духовность как его наполнение, отошла на задний план. Выходом из такой ситуации он считал создание чистых наук о духе как обновленном наполнении философии: «Наш окружающий мир есть духовное образование внутри нас и нашей исторической жизни. Для того, кто избрал своим предметом дух как таковой, нет поэтому никаких оснований требовать для этого мира иного объяснения, кроме чисто духовного» [5, с. 300]. Именно поэтому, по его мнению, в Древней Греции сформировался «тип духовной структуры, быстро развивающейся в системно замкнутую культурную форму — философию. Наряду с этим возникает — сначала внутри этого народа — дух универсальной культуры, вовлекающий в свою сферу все человечество, и начинается непрерывное развитие в форме новой историчности» [5, с. 302]. Однако этот подход, существовавший на протяжении многих столетий, в XVII веке дал сбой, который повлек за собой изменение смысловой направленности человеческой сути. В итоге и начали возникать кризисы, которые сам человек по незнанию интерпретировал в духе цивилизационности.
Именно поэтому Ф. Ницше требовал кардинальной переоценки ценностей, которая должна заключаться, прежде всего, в переоценке самого места ценностей в структуре человеческого существования [6, с. 409]. Однако ХХ век усилил темпы покорения как реализацию иной рациональности, технологический прогресс достиг цифровой стадии. В настоящее время кризис рационализма стал не просто более серьезен, он достиг своего высшего пика. Поэтому не решаемый на протяжении последних двух столетий кризис привел к естественному следствию.
И сейчас сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, человек завоевывал этот мир и когда уже подумал, что завоевал, оказалось, что теперь необходимо себя сохранить. С другой стороны, в общественно-политическом разрезе, государства развивались, движимые жаждой признания, а сейчас наступил момент, когда у каждого должен сработать инстинкт самосохранения — как суметь прожить в гармонии с изменившимся миром. Что мы имеем в итоге?
В экономическом бытии наступила эра рыночных отношений, когда сам человек превратился в предмет купли-продажи. Определяя новый тип характера, обусловленный трансформацией человека экономического в человека рыночного, Э. Фромм следующим образом описывал такого человека: «Человека не заботят ни его жизнь, ни его счастье, а лишь то, насколько он годится для продажи … Цель рыночного характера — полнейшая адаптация, чтобы быть нужным, сохранить спрос на себя при всех условиях, складывающихся на рынке личностей … Личности с рыночным характером, по сравнению, скажем, с людьми XIX века не имеют даже собственного „я“, на которое они могли бы опереться, ибо их „я“ постоянно меняется в соответствии с принципом „Я такой, какой вам нужен“» [7, с. 272]. Вместе с этим, по мнению Г. Маркузе, «возникает модель одномерного мышления и поведения, в которой идеи, побуждения и цели, трансцендирующие по своему содержанию утвердившийся универсум дискурса и поступка, либо отторгаются, либо приводятся в соответствии с терминами этого универсума» [8, с. 16]. Формирование подобного типа человека естественным образом влияет на сущность и ход всех экономических, социальнополитических, общественно-исторических процессов. Тем самым тенденции развития мира идут в соответствии с образом мышления человека.
В политическом бытии заговорили о победе либеральной демократии как панацеи от тоталитаризма. По мнению Ф. Фукуямы, «к концу тысячелетия … на ринге соревнования потенциально универсальных идеологий оставили только одного участника: либеральную демократию, учение о личной свободе и суверенитете народа» [9, с. 85]. При этом необходимо понимать, что либерализм выступает следствием абсолютного индивидуализма, основанного не на моральном выборе, а на покорении. Тем самым он развивается на фоне неравной борьбы за признание, за исключительность. И прав был Ф. Фукуяма, когда говорил, что между идеалами свободы и равенства есть противоречие: «большая свобода есть усиление неравенства» [10, с. 77].
В социально-культурной сфере приоритет отдан общепринятым стереотипам мышления, нормам и стандартам поведения, а также абсолютизации универсальных ценностей, поглощающих многие системы традиционных духовных ценностей народов. Культура в обыденном значении превращается из способа самовыражения в механизм самореализации, обусловливая те самые стереотипы мышления, когда «критерием того, что делает индивид, служит успех, который в конечном итоге определяет продолжение или устранение его деятельности» [11, с. 548]. При этом «внутреннюю позицию человека в этом техническом мире называют деловитостью. От людей ждут не рассуждений, а знаний, не размышлений о смысле, а умелых действий, не чувств, а объективности» [11, с. 551‒552]. Одновременно с этим растет количество людей, занятых поиском группы комфорта, поскольку стереотипы мышления и стандарты поведения не в состоянии заменить исконно духовное пространство. Следствием выступает число людей, примыкающих к экстремистским группам в поисках все той же группы комфорта. Глобализация, тем самым, проецирует двоякий смысл: как тенденцию реальности, существующую по общепринятым нормам, и как отражение западного образа мышления и жизни, основанного на философии индивидуализма и космополитизма.
В этом отношении, с одной стороны, возникает потребность в переоценке ценностей, о которой говорил Ф. Ницше, с другой стороны, поиск выхода из сложившейся ситуации обосновывает необходимость акцента на важности архетипических истоков. По образному выражению К. Ясперса, именно в кризисные периоды народ обращается к своим историкокультурным истокам для получения мотивации в движении вперед. Это происходит, поскольку возникает ощущение достижение рубежа в развитии мира, несоизмеримого по своей глубине и масштабам осознания с предшествующими рубежами исторических эпох [11, с. 548]. Онтологическая субстанциональность истоков духовного в каждую эпоху истории обретает свою характерную форму проявления. В этом отношении необходимость исторического обращения к культурному наследию предопределена интуицией целостности человеческого существования. В настоящее время эта целостность нарушена, тем самым архетипы актуализируются в сознании, детерминируя формы освоения новых ценностей.
В действительности, «мир замкнулся. Земной шар стал единым. Обнаруживаются новые опасности и возможности. Все существующие проблемы стали мировыми проблемами, ситуация — ситуацией всего человечества» [12, c. 141]. Изучение существующих в современности тенденций развития бытия приводит к мысли, что основой всех глобальных изменений мира выступает не менее глобальный кризис рациональности как способа мышления и существования в этом бытии.
Мир стабильности, несмотря на существовавшие кризисы, получивший свое отражение в классической философии, далеко позади. В настоящем мы живем в мире хаоса и суеты, когда девальвация некогда незыблемых истин, достигла апокалиптического предела. Именно поэтому можно утверждать, что к концу ХХ века он развернулся в полном формате. XXI век — это уже другая история. И в этой связи именно оттого, что новые ориентиры в понимании человека, эпохи и мира не были выражены, переформатирование начало происходить хаотично, когда каждый субъект в своей самореализации был зациклен собственно на себе самом; когда каждое государство потонуло в собственных противоречиях; когда каждая культура начала вопрошание со своего наследия; когда каждое общество ударилось в свои локальные ценности; когда каждый политический игрок играет исключительно по своим правилам, а не общим принципам.
В рассуждениях о глобализации и пост-глобализации в настоящем естественным образом возникает вопрос — к чему мы пришли? Отвечая на поставленный вопрос, хотелось бы использовать наиболее современный термин «глобальная перезагрузка», основываясь на работе Клауса Шваба и Тьерри Маллере и имея в виду специфику пост-пандемического мира, о чем уже некоторое время рассуждает мировое сообщество. «Глобальная перезагрузка» блуждает в умах многих мыслителей, да и просто живущих в XXI веке небезразличных к мировому будущему представителей человечества. Неслучайно Жак Аттали считает, что «Сегодня решается, каким будет мир в 2050-м, а может, и в 2100 году. От наших действий зависит, как будут жить наши дети и внуки — в комфортных условиях обитания или в настоящем аду, ненавидя нас. Чтобы оставить им пригодный для жизни мир, нужно задуматься о будущем и понять, почему ход истории принимает тот или иной оборот, как на это реагировать» [13].
Пути выхода из глобального кризиса
Понимание причин, приведших к глобальным изменениям мира, способствует осознанному подходу к определению тенденций дальнейшего развития бытия и нахождению путей выхода из пограничной ситуации, накрывшей собой человечество вообще. Верховенствующий на протяжении ХХ столетия абсолют прогресса привел к пресыщению материальным. Это означает, что для встряски сознания человека имеет смысл идти от противного — предложить ориентир духа, а не материи во благо будущего человеческой цивилизации, во благо изменения хода жизни и истории.
Сейчас наступил момент, когда у каждого народа должен сработать инстинкт самосохранения — как суметь прожить в гармонии с изменившимся миром. Актуальны и востребованы новые способы и формы бытия, когда победу будут одерживать не только те, кто держит в руках нити технологического прогресса, а в первую очередь те, кто сможет и будет тонко чувствовать все, что происходит с миром и пытаться не только ощущать пульс изменений, но и реагировать. В этом отношении новыми ноу хау будут те, которые не только отражают формы наукоемких технологий, а в первую очередь те, которые поймут ход экзистенциальной необходимости. Это и будет проявлением интуиции в нахождении ответа на вызов времени. Встряска коллективного человеческого сознания произошла, но в настоящем задача заключается в том, чтобы за подобной встряской последовало изменение существа ценностей. Насколько это возможно в мире технологического детерминизма сказать сложно, но без этого катаклизмы в более интенсивном темпе будут преследовать человечество.
Сложившаяся ситуация в современности являет собой определенный рубеж, как в осознании существа человека и мира в контексте технологического прогресса, так и в понимании необходимости смены ориентиров в восприятии бытия и познания мира в целом. Этот рубеж обладает двоякой смысловой значимостью: он проявляет имеющиеся потенциальные возможности совершенствования духа, тем самым может стать началом совершенно нового пути; либо, реализовав опасности, положит конец этому бытию, открыв дорогу в ничтожное время, в никуда. В этой связи актуализируется интуитивный подход. Это означает, что когда зашкаливает рациональность, нарушается равновесие в восприятии бытия, спонтанным образом актуализируется кочевой тип мышления как реакция на абсолютизацию рациональности, как отражение интроспективного понимания человека и бытия. Неслучайно сейчас, в век высоких технологий, появилось явление цифрового кочевья.
Рационализм, ставший залогом успеха ХХ столетия, испытывает кризис мысли. Это означает, что настало время других стандартов и парадигм мышления и существования. Необходимо расставить акценты в системе способностей и умений в контексте выживания и развития в XXI веке. В современности к природным катаклизмам добавились социальные катастрофы высокотехнологичного мира. Коллективное бессознательное таит множество загадок. Надо не бороться с последствиями технологического детерминизма, а изменить сам способ жизни в бытии природы. Это и есть гуманизация сознания человека XXI века. Одновременно это означает, что на смену экономическим и техническим наукам, бывшим в приоритете на протяжении более чем века, приходит рост значимости гуманитарных наук, долженствующих ответить на вопросы социальной адаптации человека в эпоху искусственного интеллекта, на извечные вопросы сущности и существования.
В этой связи с необычайной силой актуализируется возрождение культурных символов, ориентированных на возвращение человеку способности творить на основе духовных ценностей как приоритетных в проявлении позиции человека в этом мире. Диктат рационализма с необходимостью привел к актуализации интуитивного подхода к решению антропологических, экологических, экономических, социально-политических и культурных проблем. На сегодня востребовано интуитивное прочтение вызовов исторического времени и нахождение ответов.
Заключение
Глобальная перезагрузка своим основанием имеет необходимость пересмотра системы ценностей для обозначения тенденций развития мира. В этой связи особый акцент предполагается сделать на осознании специфики мышления человека современной эпохи. Именно поэтому для получения толчка в развитии народы обращаются к своим архетипам как безусловному наследию, интерпретация которого позволяет соотнести историческое предание с противоречиями настоящего. Таким образом, случается диалог между прошлым и настоящим для предопределения направлений развития близлежащего будущего. Культурные символы играют роль индикатора в обозначении обновленной системы ценностей. Каким бы глубоким ни был современный кризис человеческой цивилизации, выход обязательно рождается при должной аналитической работе в контексте диалектики парадигмы мышления, ценностей, стандартов и норм существования в настоящем.
Список литературы Характеристика современного мира и пути выхода из кризиса: рациональность и архетипы
- Тойнби А. Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 730 с.
- Бодрийяр Ж. Америка. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2000. 208 с.
- Франкл В. Воля к смыслу. М.: Эксмо-Пресс, 2000. 368 с.
- Гегель Г. В. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992. 444 с.
- Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология. ХХ век: Антология. М.: Юрист, 1995. 703 с.
- Ницше Ф. Автобиография // Ницше Ф. Избранные произведения. М., 1990. 416 с.
- Фромм Э. Иметь или быть. М.: АСТ, 2007. 320 с.
- Маркузе Г. Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994. 368 с.
- Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2010. 588 с.
- Фукуяма Ф. Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия. Гл.4. От достоинства к демократии. М: Альпина Паблишер, 2019. 256 с.
- Ясперс К. Духовная ситуация времени // Мир философии. Ч П. М., 1991.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. 527 с.
- Аттали Ж. Краткая история будущего. СПб.: Питер, 2014. 288 с.