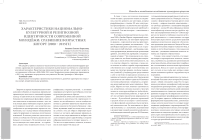Характеристики национально-культурной и религиозной идентичности современной молодёжи: сравнение возрастных когорт (2000 - 2015гг.)
Автор: Рязанова Татьяна Борисовна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Обсуждаются данные социально-психологического изучения субъективной иерархии различных характеристик национально-культурной и религиозной идентичности современной российской молодёжи. Представлены сравнения возрастных когорт - групп одного возраста, исследованных в Москве в 2000, 2008, 2015 годах. Межрегиональные сравнения, проведенные в 2015 году, проведены на результатах, полученных в Москве, Армавире и Чебоксарах.
Национально-культурная и религиозная идентичность, межрегиональные сравнения
Короткий адрес: https://sciup.org/170174117
IDR: 170174117 | УДК: 316.613;159.923.2
Текст обзорной статьи Характеристики национально-культурной и религиозной идентичности современной молодёжи: сравнение возрастных когорт (2000 - 2015гг.)
Здоровое и мирное межнациональное имеж-культурное общение, по-видимому, предполагает гармоничную целостность взаимодействующих культур и идентичности их носителей. Однако-большинство современных философов, социологов, политологов, психологов согласно с тем, что в настоящее время наблюдается кризис идентичности мирового масштаба - как вследствие многообразных и противоречивых процессов глобализации, так и вследствиевсе повышающейся скорости природных и социально-политических изменений. В поисках развития идентичности личности и общества отмечается диалектика глобального и локального. На политическом уровне это выглядит как смена циклов - от стремления к модели типа «плавильного тигля», то есть унификации, стирания различий, - к усилению поддержки культурного многообразия, политике мультикультурализма и обратно.
Динамична и личностная идентичность. Множественность идентичностей современного человека, их нестабильность, почти калейдоско-пичность, тревожно-иронически подмечена именитым социологом Зигмунтом Бауманом: «проблема, мучающая людей на исходе века, состоит не столько в том, как обрести избранную идентичность и заставить окружающих признать ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная идентичность потеряет ценность...»1. Что же это за идентичность личности, есличело-век ею жонглирует? Не маска ли?
В связи с этим, для полноты понимания основ методик и результатов нашего исследования, уместно сравнить две категории, которые разрабатывались в течение XX века в двух разных философских и психологических традициях - в российской (включая русское зарубежье) и в западной. Эти две категории - самосознание и идентичность.
В истории изучения идентичности, как отме-чалв 1980-е Джеймс Марсиа, современный последователь Э.Эриксона, эту категорию определяли по-разному - через понятия чувства, представления, установки, решения, постановления ... Сам Дж.Марсиа определил идентичность как «структуру самости (self-structure) - внутреннюю, само-сконструированную, динамическую организацию драйвов, способностей, верований и индивидуальной истории»2. Чем лучше развита эта структура, пишет он, тем более индивидуумы осведомлены как о своей личностной уникальности, так и о сходстве, общности с другими, а также своих сильных и слабых сторонах в прокладывании собственного пути в мире. Соответственно, чем менее эта структура развита, тем более смешанные (confused) у индивидуумов представления о себе и тем более им приходится полагаться на внешние источники в оценке себя. При развитии идентичности как гибкого единства её элементы постоянно добавляются и отвергаются, со временем целостныйгештальт может сдвигаться. Одна-коДж. Марсиа все-таки, понимал идентичность как внутреннюю, интимно-важную структуру личности, за которую онаборется, чтобы обеспечить свое полноценное развитие. А через 20-30 лет эта категория практически приравнивается к маске... В российской традиции органичной и родной является категория «самосознание», с его философской основательностью и внутренней диалогичностью. Ею пользовались и философ И.А.Ильин, и, к сожалению, недооцененная в должной мере в нашей психологической науке и, особенно,педагогической практике Л.И.Божович,
‘Бауман 3. Идентичность в глобализирующемся мире И Бауман 3. Индивидуализированное общество. М., Логос, 2002. С. 185-186.
с её замечательными разработками путей воспитания суверенной личности. Очевидно, если подставить в формулировку Баумана другое слово и сказать - «вовремя поменять самосознание» -это уже будет граничить с психиатрией (недаром синхронно - в конце XX века официально введен вклассификатор психических расстройств термин «диссоциированная личность»3). Важно держать в уме разность глубинных смыслов категорий «идентичность» и «самосознание», которую можно проследить вплоть до различия решений коренных догматических вопросов в богословских традициях христианского Запада и Востока. Западное богословие отвергло главенство Лица, и пошло по пути объективации, и тем самым, как следствие - уплощения понимания личности человека как творения и образа Божия.
В связи с этим следует отметить, что попытки измерить характеристики личности, связанные, в особенности, сдуховными и религиозными аспектами её бытия, обязательно будут ущербными и искаженными плоскостными проекциями реальности. Польза от такого исследования может состоять в том, чтобы дать экспресс-индикацию возможных проблем и предложить пути их решения.
Кризис российской идентичности, также отмечаемый большинством авторов,безусловно, связан с общей ситуацией в мире. Но его выраженная российская специфичностьобусловлена внутренними противоречиями, среди которых отсутствие национальной идеи, ясной концепции цивилизационного и социально-экономического развития государства. Он выражается в сложных, разнонаправленных трансформациях идентичности. Во-первых, процессы глобализации ведут к формированию наднациональных, цивилизационных аспектов идентичности, которые вводят тенденцию унификации, стирания различий. Во-вторых, культурологами отмечается вектор фрагментации, локализации культурных оснований идентичности, свидетельствующих, как о тенденции к утрате культурной целостности страны, так и об актуализации традиционных основ культуры в структуре российской идентичности4.
Таблица 1. Средние ранги иерархии идентичностей, полученные в разные годы исследования на выборках московских старшеклассников (чем меньше величина ранга, тем он выше, тем ближе к началу ряда его выбирает респондент).
|
Московские старшеклассники |
|||||
|
2000 г. |
2008 г. |
2015 г. |
|||
|
Этническая |
2,42 |
Росс. Гражд. |
2,79 |
Гендерная |
2,8 |
|
Гендерная |
2,79 |
Гендерная |
2,98 |
Росс.Гражд. |
2,88 |
|
Религиозная |
3,19 |
Московская |
3,47 |
Этническая |
3,54 |
|
Московская |
3,21 |
Этническая |
3,91 |
Религиозная |
3,54 |
|
Росс. Гражд. |
3,30 |
Религиозная |
3,92 |
Московская |
3,63 |
|
Европейская |
5,09 |
Европейская |
4,20 |
Европейская |
3,83 |
В наших эмпирических исследованиях использовалась методика изучения национальной идентичности, состоящая из блоков, соответствующих различным аспектам национально-культурной идентичности - познавательным (когнитивным) и аффективным, оценочным5. Здесь преимущественно будут представлены результаты самокатегоризации наших респондентов. Данная задача предлагает выбор дескрипторов (самоопи-саний) из предложенного набора (когнитивный аспект идентичности) и ранжирование субъективной важности дескрипторов, построения иерархии, отображающей аффективные аспекты идентичности.
Обсуждение именно иерархических структур идентичностей и их изменений в когортах представляется важным потому, что наши деятельности представляют собой иерархию в соответствии с иерархией мотивов и ценностей6. То есть, при реализации конкретных действий, особенно в ситуациях альтернативы, выбора, - верховные ценности будут доминировать.
Опрос подростков 15-16 лет проводился в государственных общеобразовательных школах в 2000, 2008 (в Москве) и в 2015 году (в Москве, Армавире и Чебоксарах).
В Таблице 1 представлены средние ранги иерархии идентичностей, полученные на выборках московских старшеклассников.
Данные Таблицы 1 показывают, что в трех возрастных когортах старшеклассников наблюдались различные группировки характеристик самоописанияв усреднённых иерархиях идентичностей. Их можно связать с изменениями социально-политической ситуации в стране. Старшеклассники 2000г. исследования (возрастная когорта, выросшая в ельцинской России - сейчас это тридцатилетние взрослые), в среднем, на первые места ставили различные виды локальных идентичностей - этническую, религиозную, московскую, а также пограничную между персональной и социальной - гендерную. Общенациональная гражданская идентичность получила у представителей этой когорты подростков лишь пятое место из 6 наиболее часто выбираемых. Причины актуализации различных видов локальных идентичностей проанализированы в социальных науках: ими стали особенности социально-политического реформирования постсоветской России, развитие федеративных отношений, при котором преобладали центробежные силы, ориентация на западную науку и политтехнологии в условиях активизации национальных элит республик и серьезного кризиса солидаристских ценностей7 (Дробижева, 2002; Попова, 2014). Политика мультикультурализма ельцинской России поощряла этноцентризм, ослабляя интеграционные процессы8. В условиях расшатывания ценностных оснований государства человек обращается к локальному опыту, по отношению к которому проявляется, как отмечает известный журналист Т.Фридман9, тенденция к сакрализации - как наиболее глубоко, личностно укоренившемуся, незыблемому, прочному, не зависящему от перемен, близкому к непосредственному личному опыту
Однако в результатах опроса когорты подростков 2008 года видно, что гражданская идентичность с 5 места в иерархии передвинулась на первое, что, в целом, может свидетельствовать об успешности идеологической и политической деятельности государства по спасению целостности страны. Кроме того, можно говорить об актуализации внутреннего механизма ценностно-ментальной саморегуляции общества10 при-угрозе самосохранению. Этническая и религиозная идентичности переместились с первого и третьего соответственно на четвертое и пятое места. Локальная (московская) идентичность несколько повысила свой статус, оставаясь на срединном месте иерархии (сдвиг с 4-го на 3-е место). Гендерная идентичность осталась на прежнем (2-ом) месте, также как и европейская (на последнем).
Можно отметить, что данные, полученные нами в 2008 году на относительно небольшой выборке (120 человек), согласуются с данными полученными другими исследователями в конце 2000-х гг. на многотысячных выборках: граждан- ская идентичность лидировала11. Это, однако, еще требует более глубокого, качественного анализа: в работах В.Е. Семенова12 отмечается, что только половина опрошенных недавно молодых петербуржцев считают себя патриотами, а это для автора означает, что у другой половины настоящей российской идентичности просто нет.
Представители когорты современных московских старшеклассников (2015г. исследования) дали несколько отличающийся усредненный выбор важности характеристик идентичности: гендерная идентичность переместилась со второго места в первых двух срезах на первое; с небольшой разницей среднего ранга за ней следует гражданская. Можно отметить некоторое снижение ранга значимости городской идентичности, а этническая и религиозная несколько повысили свою значимость и сместились на третье-четвертое место (с равными рангами). Однако, интересно, что за все годы проведения исследований данной методикой (включая непредставленные здесь пилотажи) это первый случай, когда персональная (гендерная) идентичность заняла лидирующую позицию. Что это может означать - покажет будущее(индивидуалистические тенденции? Переосмысление роли мужского и женского в жизни? Реакция на внимание к гендеру в обществе и в СМИ?).
Хочется обратить внимание на возможную информативность и значимость полученного небольшого превышения среднего ранга гендера над рангом гражданской идентичности. За время наших исследований уже были случаи, когда появлялись минимальные «странные» признаки, которые затем оказывались прогностичными, например, появление в 2008 г., в малом проценте случаев,самокатегоризации «мусульманин» у этнически русских подростков,о чем будет сказано ниже.
В целом, можно говорить о тенденции у современной московской молодежи к идентификации с государством и отступлении локальных этнокультурных идентичностей с лидирующих позиций.
Однако имеет смысл поставить вопрос: а существует ли некий «правильный», наиболее здоровый, позитивный вариант иерархии идентичностей?Позволим себе рассмотреть усредненные ранги идентичностей студентов начальных курсов православного вуза (исследование 2008 года).
Таблица 2. Средние ранги иерархии идентичностей студентов православного вуза.
|
Студенты православного вуза (2008 г) |
|
|
Религиозная |
1,29 |
|
Росс.гражд. |
2,81 |
|
Гендерная |
3,10 |
|
Этническая |
3,14 |
|
Московская |
4,57 |
|
Европейская |
5,14 |
При сравнении данных старшеклассников 2008 г. с данными студентов православного вуза видно, что у студентов религиозная идентичность лидирует, причем с более высоким средним рангом, чем гражданская идентичность у школьников (что говорит о малом разбросе, единодушии оценок респондентов), сразу за ней следует гражданская (гражданин России).
В целом, данный вариант иерархии видится наиболее здоровым, оптимальным. По словам покойного святейшего патриарха Алексия II, сказанным в ответ на соответствующий вопрос, «Русская Православная церковь служит не Рос-
Таблица 3. Распределение ответов различных когорт московских школьников о личной вереи религиозной самока-тегоризации (в % от числа опрошенных).
|
2000 г. |
2008 г. |
2015 г. |
|
|
Верующий |
12 |
7 |
0 |
|
Христианин |
9 |
30 |
38 |
|
Православный |
46 |
46 |
29 |
|
Протестант |
- |
0,7 |
- |
|
Мусульманин |
- |
1,4 |
- |
|
Шиит |
- |
0,7 |
- |
|
Язычник |
1,7 |
1,4 |
- |
|
«Слабо верующий» |
5,1 |
- |
- |
|
«Не знаю» |
3,4 |
- |
- |
|
Неверующий |
атеист: 1,7 |
атеист: 5,1 |
атеист: 23 |
|
неверующий: 22,0 |
агностик: 8,0 |
агностик: 8,0 |
|
|
Буддист |
- |
- |
2,0 |
сии, она служит Богу». Получается такой порядок: если православный народ служит, в первую очередь, Богу, а потом стране, в которой проводит земную жизнь, то Господь укрепляет страну, в ней занимает подобающе место гендер и семья (вместе с правильным деторождением и воспитанием). Этническая идентичность с её культурной и языковой специфичностью занимает подобающее ей следующее, очень близкое по своему рангу место, а локальная (Московская) и европейская – на несколько большей дистанции – «почётные» предпоследнее и последнее места. Уместно здесь вспомнить призывы военных временв истории России, в которых слова были выстроены в иерархию, например, «За Веру, Царя и Отечество». Слова призыва поставлены именно в таком порядке, который получен в структуре идентичностей студентов в Таблице 2.
Данные Таблицы 3 показывают, что в выборке когорты школьников, обследованной в 2008 году, по сравнению с их сверстниками, опрошенными в 2000, существенно, почти в 4 раза, повысился процент категоризующих себя как христиан. Новым явился минимальный, но отсутствовавший в срезе 2000 года, процент «мусульман» (при том, что все опрошенные – этнически русские). Однако, в свете событий настоящего времени, мы можем сказать, что это, видимо, не была случайная ошибка измерения. Понятно, что эти респонденты-«мусульмане» не были (или не обя- зательно были) истинными и «правоверными», но это, по-видимому, была симптоматичная «примерка» идентичности. Сейчас мы можем увидеть на улицах славянок в хиджабах и студентов вузов с тройными инициалами при русских фамилиях (которые расшифровываются, например, как Мухаммед Джафар-ибн-Дауд … Иванов (имя и фамилия вымышлены по образцу действительных встреч)). Интересно отметить, что у представителей когорты старших подростков (этнически рус-
Таблица 4. Распределение ответов о посещении церкви и домашней молитве московских школьников в 2000, 2008 и 2015 годах (данные – в процентах от числа опрошенных)
|
2000 г. |
2008 г. |
2015 г. |
||
|
Домашняя молитва |
Никогда |
81,7 |
50,8 |
|
|
Изредка |
1,7 |
12,5 |
||
|
Дома молюсь |
16,7 |
35,8 |
67 |
|
|
Посещение церкви |
Никогда |
33,3 |
24,6 |
3 |
|
Изредка |
- |
15,6 |
- |
|
|
Посещаю |
66,7 |
58,2 |
80 |
|
|
Частота посещения церкви |
Практически нет |
48,1 |
22,0 |
- |
|
Изредка |
48,1 |
52,5 |
32 |
|
|
Часто/регулярно |
3,8 |
только по большим праздникам: 11,5 |
по праздникам 46 |
|
|
по праздникам: 9,0 |
||||
|
регулярно: 3,3 |
регулярно 2 |
|||
ских), обследованной в 2015 году, идентичности «мусульманин» уже нет. Разумно предположить, что запрет ИГИЛ на территории РФ и громкие истории в СМИ о присоединившихся к экстремистам юношах и девушках оказывают влияние на сами «примерки» идентичности и сообщение (или несообщение) о них в анкетах.
В таблице также обращает на себя внимание постоянство процента самокатегоризации «православный» в двух ранних срезах - 45% и уменьшение его в полтора раза в последнем срезе. Оно контрастирует с отмеченным ростом самокатегоризации«христианин» (примерно с 8 до 38%), что, вероятно, указывает на активность внутренней психологической работы учащейся молодёжи с этой религиозной категорией. В прошлые годы делались попытки объяснить высокий процент самокатегоризации «православный» (до
80% по различным социологическим опросам) тем, что в социальных представлениях соединены, почти синонимичны понятия «русский» и «православный». Возможно, полученные различия разными исследователями связаны с самой формулировкой вопроса, к которой очень чувствительны ответы респондентов; однако вероятно и то, что происходит дифференциация понимания этих религиозных категорий в молодёжном сознании.
Как видно из данных следующей ниже Таблицы 4, самокатегоризация «православный» может отнюдь не означать действительную причастность наших респондентов к церковной жизни.
Данные Таблицы 4 показывают увеличение распространенности практики домашней молитвы за 8 лет и уменьшение процента подростков, которые практически никогда не посещают церковь. При этом увеличился процент молодёжи, посещающей церковь по праздникам и большим праздникам. Интересные различия наблюдаются в таблице в графах «посещение церкви» и «частота посещения церкви»: при более конкретной формулировке вопросов в последнем случае оказывается, что большая часть респондентов, которые «посещают церковь», посещают её изредка. Наконец, если обратить внимание на самые последние строки таблицы, товидно, что тех, кого
Таблица 5. Средние ранги иерархии идентичностей, полученные в 2015 году при исследовании старшекласс ников из Чебоксар, Армавира и Москвы.
Межрегиональные сравнения
Интересно сравнить московские данные с результатами в других регионах страны.
Специфика региональных центров, помимо удаленности от Москвы, - менее выраженная поликультурность, чем в столице. Армавир - город на Кубани в Краснодарском крае, населенный преимущественно русскими (казачество), а также армянами-черкесогаями (около 10%), по просьбе которых он был основан в первой половине XIX века как защита от омусульманивания. Чебокса ры - столица Чувашии; волжский город населен преимущественно представителями коренного этноса (более 60%), а также русскими.
Данные Таблицы 5 позволяют провести межрегиональные сравнения. В целом, верхние части иерархии идентичностей подобны аналогичным частям московских данных, полученных в 2008г. Однако нижние части отличаются заниженным по сравнению с Москвой положением городской идентичности (Чебоксарец, Армавирец - предпоследнее и последнее места соответственно).Интересно также отметить, что наднациональная -европейская идентичность заняла 4-е и 5-е места, чего не наблюдалось ранее в московских данных ни в одном срезе. Возможно, это свидетельствует о меньшей благополучности самовосприятия горожанина из региона по сравнению с москвичом

Таблица 6. Распределение ответов старшеклассников из различных регионов о личной вере и религиозной самока-тегоризации (в % от числа опрошенных).
|
Чебоксары |
Армавир |
Москва |
|
|
Верующий |
4 |
6 |
0 |
|
Христианин |
9 |
46 |
38 |
|
Православный |
39 |
21 |
29 |
|
Мусульманин |
- |
1 |
- |
|
Язычник |
2 |
- |
- |
|
«Не знаю» |
- |
1 |
- |
|
Неверующий |
атеист: 19 |
атеист: 16 |
атеист: 23 |
|
агностик: 19 |
агностик: 8,0 |
агностик: 8,0 |
|
|
Буддист |
- |
1 |
2,0 |
|
Иудей |
2 |
- |
- |
|
2 |
- |
- |
|
|
«Итсист» |
4 |
- |
- |
и компенсаторным стремлением к глобализации идентичности.
Если обратиться к данным о религиозной са-мокатегоризации, то и здесь можно увидеть интересные региональные различия.
Данные Таблицы 6 свидетельствуют о различных вариантах религиозной самокатегоризации наших респондентов в зависимости от различных социокультурных контекстов развития. У подростков из столицы Чувашии мы видим разнообразные выборы религиозной идентификации, вплоть до примерки облика сатаниста (источник, судя по другим ответам этих респонденток, в их увлечении рок-музыкантом, позиционирующим себя как сатанист (или являющимся им) или изобретения «своей» веры («итсист» - я сам по себе такой - я «что-то» (it)). Полученные небольшие проценты своеобразных ответов согласуются с социокульурной атмосферой региона: поздним крещением чувашей (в 18 веке), без глубокого духовного просвещения, существованием с давшего времени и по сей день выраженных элементов языческих верований, встроенных и в образ жизни людей, категоризующих себя как православных. Довольно высокий процент молодых атеистов - по-видимому, общероссийское явление для данной когорты.
В Таблице 7 обращает на себя внимание высокий процент чебоксарских подростков, которые никогда дома не молятся, а с другой стороны - относительно высокий процент армавирских подростков, которые посещают церковь регулярно- 9% (такой высокий процент не был ранее получен нами ни в одном исследовании). В этом последнем случае многое может объяснить, во-первых, преимущественно казачье русское население Армавира, а также распространенная в городе школьная практика вождения детей на экскурсии в православные храмы.
Выводы
Действительно, можно говорить о различиях показателей национально-культурной и религиозной идентичности в различных возрастных когортах российской молодёжи. У старшей возрастной когорты (16-летние 2000 года) наблюдалось снижение значимости гражданской идентичности и повышение значимости локальных (и сакральных) её характеристик.
Особенно яркие отличия отмечаются у подростков средней возрастной когорты (16-летние 2008 года), когда наблюдался существенный подъём субъективной значимости гражданской идентичности в сторону её доминирования, что говорит об усилении интеграционных тенденций развития идентичности. Это когорта, вступающая сейчас в активную общественную и профессиональную жизнь (на настоящий момент им около 23 лет).
У самой молодой возрастной когорты, только выходящей из дверей школы, среди москвичей можно отметить повышение значимости гендерного фактора по сравнению с данными предыдущих возрастных срезов.
Молодёжь активно осмысляет духовные и религиозные аспекты бытия. Подростки нашего времени чаще прибегают к домашней молит-
Таблица 7. Распределение ответов о посегцении церкви и домашней молитве у представителей трех регионов (данные - в процентах от числа опрошенных).
Интересные данные дали региональные сравнения: можно предположить снижение значимости характеристик локальной (городской) идентичности у респондентов из Армавира и Чебоксар и, возможно, компенсаторное повышение наднациональной (европейской) идентичности. Здесь важны дополнительные исследования. Однако можно было бы рекомендовать региональным властям помочь горожанам повысить переживание значимостигородской идентичности через развитие праздничной культуры (через включение в проекты празднования важных событий историко-региональных культурных элементов).

Список литературы Характеристики национально-культурной и религиозной идентичности современной молодёжи: сравнение возрастных когорт (2000 - 2015гг.)
- Барретт М. Развитие национальной идентичности: концептуальный анализ и некоторые итоги Западноевропейского исследования // Развитие национальной, этнолингвистической и религиозной идентичности у детей и подростков.ред.: М.Барретт, Т.Рязанова, М.Воловикова М.: Изд-во ИП РАН, 2001. С. 19-25.
- Бауман З. Идентичность в глобализирующемся мире // Бауман З. Индивидуализированное общество. М.,Логос,2002.
- Дробижева М.Л. О социальных и политических проблемах формирования толерантности // Публичная сфера и культура толерантности. Общие проблемы и российская специфика. М., 2002.
- Дробижева М.Л. Кого русские считают русскими? // Информационный портал фонда Русский мир. 12.05.2015.
- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.
- Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. М.: Класс, 1994.
- Малыгина И.В. Российская идентичность: в поисках утраченного единства // Национально-культурная идентичность в современной России: истоки, особенности, перспективы. Сб. ст. -СПб.:Алетейя, 2015. С. 96 - 109.
- Попова О.В. Исследование проблем политической идентичности России // Фонд исторической перспективы // http://www.perspektivy.info/print.php?ID=279807 опубликовано 22.04.2014.
- Семенов В.Е. Типология российских менталитетов и имманентная идеология России // Вестник Санкт-Петерб.ун-та. Сер.6. 1997. Вып.4.
- Семенов В.Е. Социальные ценности, идентичность и полиментальность в современной России // Национально-культурная идентичность в современной России: истоки, особенности, перспективы. Сб. ст. - СПб.:Алетейя, 2015. С. 117 - 136.
- Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Функциональная роль гражданской идентичности в структуре социального капитала / Идентичность и организация в меняющемся мире / отв. ред. Н.М. Лебедева, Н.Л. Иванова, В.А. Штроо, 2009в. С. 13-41.
- Федотова Н.Н. Кризис идентичности в условиях глобализации// Человек, 2003, №6.
- Фридман Т. Лексус и оливковое дерево \\ перевод Я. Романчука http://liberty-belarus.info/ index.php?option=com_k2&view=item&id=662:leksus-i-olivkovoe-derevo-mir-kotoromu-ispolnilos-desyat-let&Itemid=96.
- Marcia J. Identity in Adolescence // Handbook of Adolescent Psychology. Ed. by J. Adelson. NY, Willey a. Sons, 1980.
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139350 (дата обращения: 28.01.2013).